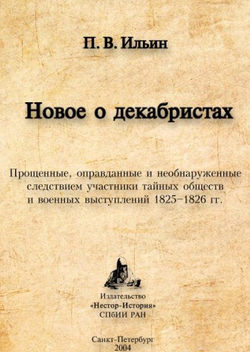Читать книгу Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. - П. В. Ильин, Павел Ильин - Страница 6
Глава 1
«Простить… заблуждения прошедшие»
Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., освобожденные от наказания
Содержание под арестом и другие формы привлечения к следствию. Оформление акта освобождения от наказания
ОглавлениеУказанные выше разновидности аболиционного помилования обусловили различные формы привлечения к следственному процессу. Лица, участие которых в тайных обществах и заговоре 1825 г. расследовалось заочно, разумеется, избежали ареста и допросов. Они, по-видимому, не подверглись непосредственному воздействию со стороны следствия в ходе расследования их причастности к делу. Остальные группы прощенных так или иначе были привлечены к следствию и испытали, как правило, определенное воздействие, во многих случаях сходное с тем, что испытывали другие категории подследственных.
Прощенные в первые дни следствия были арестованы и привлечены к расследованию сразу же после событий 14 декабря 1825 г. Первые допросы, проводились, как правило, при участии императора в Зимнем дворце. Характерно, что в большинстве случаев до сих пор не установлено конкретное место кратковременного заключения прощенных при первых допросах (А. А. Суворов, Ф. В. Барыков, Петр И. Колошин и др.). Думается, не будет ошибочным предположение о том, что они содержались под арестом, главным образом, на Главной гауптвахте
Зимнего дворца. Именно она служила местом содержания арестантов во дворце. Не приходится сомневаться, что это место содержания арестованных было наиболее удобным в случае первых арестов участников событий. В пользу предположения говорит сама скоротечность рассмотрения их дел. Она подразумевает, что помещение, в котором содержались под арестом в первые дни после 14 декабря – особенно те, в отношении которых не был точно установлен факт участия в мятеже, кто только подозревался в знании о нем или соучастии, располагалось неподалеку от места допросов. Наиболее удобным местом были помещения Зимнего дворца, в первую очередь Главная гауптвахта. Доказательством тому служат, например, записки А. Е. Розена, который зафиксировал присутствие на Главной гауптвахте одного из прощенных в первые дни следствия, но не занесенных в «Алфавит» Боровкова офицеров, – А. В. Чевкина[56].
Одно из наиболее авторитетных мемуарных свидетельств об аресте А. А. Суворова недвусмысленно указывает на место содержания арестованного – Зимний дворец. Именно здесь Суворов провел ночь после своего ареста вечером 22 декабря, утром он был допрошен в покоях дворца и в присутствии императора. Мемуаристы, записавшие рассказ самого Суворова об этих событиях, упоминают о том, что только что прощенный офицер встретился с арестованным П. Н. Свистуновым в коридорах Зимнего дворца[57].
Некоторые из прощенных в первые дни после событий 14 декабря находились под арестом на гауптвахтах гвардейских полков. Так, офицеры-конноартиллеристы были арестованы 14 декабря в своих казармах, а затем содержались в казармах 1-й гвардейской артиллерийской бригады. Об этом свидетельствует дневник отца одного из них, Г. И. Вилламова, посетившего своего арестованного сына[58].
Арестованные офицеры Гвардейского экипажа Д. Н. Лермантов и П. Ф. Миллер первоначально содержались на гауптвахте при госпитале Семеновского полка. Первый из них по болезни провел здесь весь период своего заключения[59]. Можно предположить, что арестованные на короткое время офицеры Московского полка – участники заговора, освобожденные от ответственности (А.А. Корнилов и др.), содержались в казармах своего полка[60].
Привлечение к следствию освобожденных от наказания в ходе и по итогам расследования ничем не отличалось от соответствующей процедуры в отношении осужденных, наказанных без суда или официально оправданных: после ареста они доставлялись в Зимний дворец на первый допрос, а затем их отправляли к месту содержания под арестом.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что всего лишь несколько человек из числа освобожденных по итогам следствия содержались в казематах Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости. Заключение арестованного в крепость, как известно, служило явным и вполне определенным признаком того, что следствие питало в его отношении серьезные подозрения в участии в декабристской конспирации или мятеже 14 декабря 1825 г. Из числа прощенных в крепости оказались офицеры Гвардейского экипажа П. Ф. Миллер и А. Р. Цебриков. С января 1826 г. они содержались в крепости, а в феврале были перемещены соответственно в Кронштадтскую и Нарвскую крепости, где и оставались до решения их дела[61]. Условия пребывания под следствием этих офицеров не отличались от условий наказанных по итогам процесса. Это и понятно: оба офицера-моряка были участниками выступления 14 декабря и подозревались в участии в заговоре. Еще один офицер Гвардейского экипажа, упомянутый выше Д. Н. Лермантов, избежал этой участи вследствие болезни. В научной литературе существует мнение, что в крепости короткое время провел М. Н. Муравьев, вскоре после ареста оказавшийся в Военно-сухопутном госпитале[62]. Это мнение находит некоторое основание в том, что представители семьи Муравьевых виделись руководству следствия влиятельными и важными участниками тайных обществ. Однако документы о пребывании декабристов в крепости не подтверждают такого указания: после ареста М. Н. Муравьев некоторое время находился на Главной гауптвахте, а затем был отправлен в госпиталь[63].
Тот факт, что в крепости оказались считанные представители группы «прощенных декабристов», говорит о том, что подавляющая часть впоследствии освобожденных с самого начала следствия рассматривалась как менее виновные фигуранты, либо как слабо причастные к делу.
Этот вывод подтверждается еще одним обстоятельством. Часть впоследствии освобожденных от ответственности содержалась под арестом в Главном штабе «под караулом» у дежурного генерала, где находились в основном те, кто рассматривались следствием как менее виновные, вина которых не должна быть серьезной. Здесь оказались И. М. Юмин и Ф. Г. Кальм – члены Союза благоденствия, привлеченные к допросам[64].
Другие арестованные и затем освобожденные от наказания лица содержались на Главной гауптвахте Зимнего дворца. Лица, содержавшиеся под постоянным арестом на этой гауптвахте, также рассматривались как менее виновные или только подозреваемые. Из числа освобожденных здесь находились А. В. Семенов, в отношении которого имелись серьезные подозрения в участии в Северном обществе, и Н. И. Кутузов. Короткое время, до отправления в Военно-сухопутный госпиталь, на Главной гауптвахте находился М. Н. Муравьев. В том же госпитале содержался другой освобожденный по итогам следствия – Ф. Ф. Гагарин[65].
Первоначально в ходе следствия император разрешил привлечь И. А. Долгорукова, И. П. Шилова и некоторых других лиц к допросам не арестованными (фактически – как свидетелей по делу, однако в любой момент они могли перейти и в разряд обвиняемых), а в ряде случаев – отобрать показания без вызова в Следственный комитет. Все эти лица избежали наказания; по решению императора они были изъяты из дальнейшего расследования, а следствие в их отношении остановлено.
Те участники тайных обществ, кто был освобожден от ареста с санкции императора, по распоряжению Комитета призывались к допросам, доставлялись на его заседания, давали письменные показания, после чего возвращались к месту службы или домой. Именно так были привлечены к допросам П. П. Лопухин, Л. П. Витгенштейн, И. П. Шипов, И. А. Долгоруков, Ф. П. Толстой, а также Ф. Н. Глинка (в период между двумя арестами) и Н. И. Кутузов (повторное привлечение к допросам после освобождения). В случае офицеров гвардии и лиц, занимавших привилегированные должности или имевших звания (чины свиты), вызов на допрос и выдача вопросных пунктов производились через начальство гвардии и великого князя Михаила Павловича[66]. Процедура вызова к допросу лица, не связанного с придворной и гвардейской средой, описана в воспоминаниях Ф. П. Толстого[67].
Первые допросы лиц, привлекавшихся к следствию без ареста, производились В. В. Левашевым нередко в присутствии императора. Таким образом, они практически мало чем отличались от допросов, проводившихся в первые дни расследования.
Некоторые лица, входившие в число непривлекавшихся к следствию участников тайных обществ, писали специальные «объяснительные записки» о своем участии в конспиративных обществах, обращенные на имя императора или военного начальства; одни по собственной инициативе, другие по требованию следствия или распоряжению императора. Это – А. А. Кавелин, В. А. и Л. А. Перовские, В. Д. Вольховский, В. О. Гурко, А. Я. Миркович. Братья Перовские и Кавелин, пользовавшиеся доверием императора, подали ему записки «в собственные руки». Служивший при Главном штабе Вольховский направил свое объяснение в Комитет через начальника Главного штаба И. И. Дибича. Последнему были адресованы объяснения отставного полковника Мирковича и служившего в 1-й армии полковника Гурко[68].
Особые записки, в которых отражался итог расследования о привлеченных к следствию, начали готовиться уже после 19 января, – очевидно, в течение февраля – начала марта 1826 г.; первые записки такого рода были составлены о тех лицах, кто освобождался в ходе расследования – группе членов Союза благоденствия. Раньше этого времени записки, по-видимому, не составлялись: в делах выпущенных одними из первых среди привлеченных к следствию – Ф. Ф. Гагарина (не ранее 2 февраля) и Н. И. Кутузова (6 февраля), в отличие от членов Союза, освобожденных от наказания в марте, отсутствуют записки о «степени прикосновенности»; как представляется, это означает, что в феврале записки еще не были готовы и не участвовали в документообороте следствия[69]. Позднее подобные записки составлялись о тех, кто был освобожден по итогам расследования.
В результате рассмотрения записок оправданные или подследственные, освобожденные без наказания, «отпускались» из заключения с выдачей особого «оправдательного» документа – «аттестата». Этот документ должен был свидетельствовать о том, что освобожденное лицо, хотя привлекалось к следственному процессу и находилось в заключении, было признано невиновным и непричастным к делу, а все подозрения с него сняты. «Аттестат», таким образом, удостоверял «невинность» освобожденного, но вместе с тем служил и определенным знаком того, что то или иное лицо подозревалось в принадлежности к тайному обществу.
Первое упоминание об «оправдательном» документе содержит «журнал» Комитета от 8 января. В нем отразилась воля императора, объявленная через И. И. Дибича: «…написать военному министру, чтобы снабдить Сомова аттестатом, что он не оказался виновным ни в чем и потому арестование его не должно быть ему попрекою»[70]. Таким образом, первые акты освобождения с выдачей «аттестата» относятся уже к началу следствия; на этом этапе расследования упомянутые записки о «степени прикосновенности», содержащие результат расследования, не подготавливались.
Первоначально была установлена единая форма «аттестата», включавшая следующий текст: «По высочайшему его императорского величества повелению Комитет для изыскания о злоумышленном обществе сим свидетельствует, что NN, как по допросам обнаружено, членом того общества не был и в злонамеренной цели его участия не принимал»[71]. Эта форма в своем окончательном виде была утверждена 14 января 1826 г., после того как на заседании Следственного комитета было объявлена воля императора: Комитет не именовать «Тайным»[72], а в «аттестатах» помещать формулировку «по высочайшему повелению» и прикладывать печать императора. «Аттестат», выданный первому снабженному им освобожденному О. М. Сомову, был у него отобран и заменен на другой в соответствии с новыми требованиями[73]. Из этого следует, что в первом «аттестате» отсутствовала формула «по высочайшему повелению» и он не заверялся печатью.
Сначала предполагалось выдавать «аттестаты» только полностью оправданным («очищенным») в ходе расследования. Однако вскоре возник вопрос о тех освобожденных, которые были причастны к деятельности тайных обществ или даже состояли их членами, но по решению следствия не подлежали ответственности и освобождались от наказания. Он был поднят на заседании Следственного комитета 7 февраля 1826 г. К этому времени состоялись решения императора об освобождении Н. И. Кутузова и Ф. Ф. Гагарина, участников тайных обществ, которые, по собранным на следствии данным, не знали о «злонамеренных» планах покушений на императорскую фамилию и введения республиканского правления.
После обмена мнениями члены Комитета решили «для избежания могущих произойти недоразумений, неприятных и оскорбительных для таковых лиц, если оставлено будет в аттестате сомнение, что они были членами какого-либо общества», выдавать им те же формы, что и освобожденным по непричастности к делу[74]. Об этом было сообщено императору в докладной записке. Как свидетельствует ее оригинал, император обратил особое внимание на это решение. В частности, фраза установленной формы «аттестата»: «…как по допросам обнаружено, членом того общества не был и в злонамеренной цели его участия не принимал» – была отчеркнута карандашом, вызвав, по-видимому, несогласие Николая I[75].
По этой причине уже через несколько дней, на заседании Комитета 11 февраля, И. И. Дибич представил новую форму «аттестата», предназначенную для освобождаемых участников тайных обществ и уже согласованную с Николаем I. Она содержала следующий текст: «По высочайшему его императорского величества повелению Комитет для изыскания о злоумышленном обществе сим свидетельствует, что NN, как по исследованию найдено, никакого участия в преступных замыслах сего общества не принимал и злонамеренной цели оного не знал»[76].
Таким образом, был установлен второй вариант «аттестата», который подтверждал неучастие освобожденного только в «преступных замыслах» тайного общества, но не отрицал сам факт членства в этом обществе. Внесенная корректива была довольно существенной. Тем самым Николай I не признал возможным исключить из текста свидетельства о «невиновности» даже наименее существенную степень причастности к делам тайного общества. Он показал этим, что в отношении данной категории освобожденных сам факт их членства в тайном обществе не подлежит сокрытию и должен быть ясно обозначен в оправдательном документе. Этот факт мог в какой-то степени иметь значение в последующей судьбе освобожденных от наказания бывших участников тайного общества.
Как было отмечено на заседании Комитета, новый «аттестат» с указанием принадлежности к тайному обществу без знания его «злонамеренной цели» было решено выдавать освобождаемым лицам, «кои принадлежали к первому обществу, основанному Александром Муравьевым (речь идет о Союзе спасения. – П. И.), или к Союзу благоденствия, но по исследованию найдены отставшими и непричастными к обществам, составившимся в 1821-м году после разрушения Союза благоденствия…»[77].
В дальнейшем это решение строго соблюдалось. Вслед за получившими «аттестат» такой формы Ф. Ф. Гагариным и Н. И. Кутузовым им снабдили Н. И. Комарова и членов Союза благоденствия, освобожденных от преследования в марте-апреле 1826 г.: Ф. Г. Кальма, И. М. Юмина, а затем подозревавшихся в участии в более поздних декабристских обществах (эти подозрения, по заключению следователей, не подтвердились) А. В. Семенова и М. Н. Муравьева[78].
Иная ситуация сложилась с прощенными в первые дни расследования. После освобождения они возвращались к службе без документального свидетельства об оправдании (как, впрочем, и о привлечении к делу).
Обстоятельством, характеризующим принципиальное отличие в процедуре освобождения прощенных в первые дни процесса от освобожденных в ходе следствия, является факт подачи одним из «высочайше прощенных» в декабре 1825 г., Петром И. Колошиным, прошения о выдаче ему оправдательного документа и содержание официального ответа на это прошение. В июне 1826 г. Колошин обратился по начальству с просьбой, адресованной Следственному комитету: выдать «какое-либо явное свидетельство», подтверждающее его «невинность», тем более что его фамилия упоминалась в «Донесении Следственной комиссии» наряду с осужденными по процессу. В ответ на прошение последовал отказ, который аргументировался следующим образом: «Отвечать, что как он в Комитет к следствию требован не был, и нет ему аттестата»[79]. Действительно, с формальной стороны это было так. Колошин не допрашивался на заседаниях Комитета ни в качестве обвиняемого (находясь под арестом), ни как свидетель (что можно соотнести со случаями привлекавшихся к допросам без ареста); он был освобожден до начала его регулярных заседаний. Не будучи, строго говоря, привлеченным к расследованию, он не мог претендовать на статус «очищенного» следствием. Фактически положение Колошина, как и других лиц, освобожденных по воле императора в первые дни следствия, определялось тем, что они были «помилованы», прощены и освобождены от самого расследования. В силу такого положения эти лица, в том числе находившиеся под арестом, не наделялись оправдательным документом. Таким образом, с формально-юридической стороны степень их виновности оказалась непроясненной.
Итак, если основание для появления категории прощенных «по высочайшему повелению» заключалось исключительно в праве императора миловать тех, кого он считает нужным, то освобождение от наказания в ходе следствия, с выдачей оправдательного свидетельства по решению Комитета, опиралось, по-видимому, на выявленную степень виновности, которая по установленной следствием (с санкции императора) «градации преступлений» не подлежала наказанию. Освобождение от ареста и преследования в ходе следствия близко к «высочайшему прощению», т. е. к первому виду аболиции. Поэтому не случайной видится близкая к формулировкам «прощения» фраза о «совершенном забвении» вины Лопухина, Долгорукова, Шилова и Толстого, отразившаяся в итоговых документах следствия (о чем будет сказано ниже). Имеется и еще одно существенное различие между этими группами освобожденных. Если в случае прощенных и освобожденных в начале следствия обобщающие «записки» о «силе вины» не составлялись, а в некоторых делах о привлекавшихся к допросам не арестованными (Витгенштейн, Шипов, Толстой) содержится лишь сводка показаний о них, то в случае получивших при освобождении «аттестаты» – их дела включают «записки», на основании которых выносились решения. Это говорит о разной степени активности следствия по отношению к освобожденным от наказания. Интересно отметить в этой связи, что даже близкие к императору лица не избежали личного разговора с ним, либо подачи записок с объяснением своего участия в тайном обществе. Это свидетельствует о том серьезном значении, которое придавал делу «государственной важности» сам Николай I. Любой факт причастности к деятельности тайного общества и любая степень причастности к нему становились основанием для проведения расследования, более или менее подробного.
56
Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 139.
57
Остзейский вестник. 1859. № 3. С. 2–3; Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5. С. 141.
58
14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. СПб., 1999. С. 225.
59
Декабристы. С. 112; Алфавит. С. 276. Из документов полкового архива Семеновского полка следует, что вместе с ними содержались некоторое время В. А. Шпейер и офицеры Гвардейского экипажа, не подвергавшиеся допросам в Следственном комитете – А. А. Баранцев и А. П. Литке (Дирин П. История л.-гв. Семеновского полка. СПб., 1883. Т. 2. С. 132).
60
Декабристы. С. 85.
61
Алфавит. С. 284, 334. Ср.: Вершевская М. В. Места заключения декабристов в Петропавловской крепости // Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 4. СПб., 1996. С. 133–135. Следует указать также на тот примечательный факт, что в крепости содержались некоторые освобожденные в связи с непричастностью к деятельности тайных обществ: О. М. Сомов, Е. В. Свечин, братья Красносельские и другие.
62
Эти данные попали и в биографический справочник «Декабристы»: Декабристы. С. 119. Ср.: ВД. Т. XX. С. 542.
63
Вершевская М. В. Места заключения декабристов в Петропавловской крепости. С. 124. По данным первоисточников, собранным исследователем, в каземате № 20 Трубецкого бастиона содержался не М. Н. Муравьев, а М. И. Муравьев-Апостол. (Ср.: Декабристы. С. 119, 121).
64
Алфавит. С. 261, 342.
65
Декабристы. С. 119; Алфавит. С. 272, 242. О содержании А. В. Семенова на Главной гауптвахте Зимнего дворца см.: Львов А. Ф. Записки // Русский архив. 1884. Кн. 2. № 4. С. 238–239.
66
ВД. Т. XVI. С. 97, 159, 239. Ср.: ВД. Т. XX. С. 550, 552.
67
Записки графа Ф. П. Толстого. М., 2001. С. 220–223.
68
ВД. Т. XVI. С. 159; Т. XX. С. 558, 562; ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 244. Л. 88.
69
ВД. Т. XX. С. 533, 537.
70
ВД. Т. XVI. С. 51.
71
Там же. С. 89.
72
С 15 января 1826 г. он назывался «Комитет для изыскания о злоумышленном обществе». Первоначальное его название: «Тайный комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества к нарушению государственного спокойствия» (ВД. Т. XVI. С. 27).
73
Там же. С. 59, 61.
74
Там же. С. 89.
75
Там же. С. 268.
76
Там же. С. 96.
77
Там же.
78
Для освобождаемых лиц, не принадлежавших к тайному обществу, сохранялась прежняя форма аттестата. Это же, разумеется, распространялось на тех подследственных, которые были оправданы от обвинений в принадлежности к тайным обществам и заговору 14 декабря (А. А. Плещеев 2-й, А. С. Грибоедов и др.).
79
ВД. Т. XX. С. 415–416.