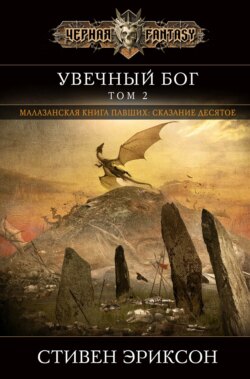Читать книгу Увечный бог. Том 2 - Стивен Эриксон - Страница 3
Книга пятая. Рука, сжимающая судьбы
Глава четырнадцатая
ОглавлениеВ чем смысл идти за шагом шаг?
Зачем земля под нами ползет?
Лишь бы вернуть нас в начало пути,
Которое стало незнакомым, чужим?
Кто проложил эту тропу и сколько надо потратить сил,
Пока дождь не утихнет и слезами не высохнет?
Пока долина не уступит реке и мягким пескам?
Пока деревья небо не скроют пыльной листвой?
Сколько надо потратить сил, гремя цепями
И утопая в толще горестных предзнаменований?
Если заставлю тебя я идти за собою,
Знай, что мое проклятие – проглоченный ключ
И жестокая жадность.
А когда наша кровь смешается и просочится в землю,
Когда на закате дней лица перед глазами сольются в одно,
Мы оглянемся на весь тот путь, что проделали за годы,
И возопим о том, что не узнали ответов,
что многого не видали,
Ибо жизнь есть легион истин – незнакомых, чужих,
И неведомо нам, какую жизнь мы проживем,
Пока не кончится путь.
Прекрасный мой легион, оставь меня на обочине
И шагать продолжай за солнцем вслед,
Где день за днем тени вечно ходят по кругу,
Только камни оставьте там, где я пал,
Незамеченный и загадочный,
Ничего обо мне не говорите,
Не говорите вообще ничего,
Легион безлик и должен навеки остаться таким,
Безликим как небо.
«Плач черепа»
«Аномандарис»
Рыбак кель Тат
Стая бабочек высоко в небе напоминала облако, огромное и белое словно кость. Снова и снова это облако закрывало собой солнце, даруя благословенную тень, которая мгновения спустя пропадала, ибо в каждом даре скрыто проклятие, а благословение скоротечно.
Перед глазами мелькали мухи. Бадаль чувствовала, как они собираются в уголках глаз, пьют ее слезы. Она не сопротивлялась, а жужжащее копошение на обожженных щеках давало хоть какую-то прохладу. Тех, кто забирался в рот, она ела. Мухи хрустели между зубами, оставляя на языке прогорклый вкус, а крылья, словно лоскутки кожи, налипали на горло, и их почти невозможно проглотить.
Осколки ушли, остались только бабочки и мухи, и было в них что-то незамутненное. Одни – чисто-белые, другие – черные. Две крайности между безжалостной землей и безучастным небом, между жизнью, которая ведет, и смертью, которая тащит, между дыханием, скрывающимся внутри, и последним вздохом упавшего ребенка.
Мухи кормились живыми, а вот бабочки пожирали мертвых. Больше ничего не происходило. Они шли и шли, оставляя за спиной следы окровавленных ног, перешагивая через тех, кто сдался.
Про себя Бадаль пела. Она чувствовала чужое присутствие – не тех, кто шел впереди или позади, а иных. Призраков. Невидимые взгляды и подернутые дымкой мысли. Нетерпение и отчаянное желание справедливости. Как будто Змейка была мерзостью на теле мира. Ее не желали терпеть. От нее хотели бежать.
Бадаль никого не отпускала. Им не обязано нравиться то, что они видят. Они не обязаны любить Бадаль, Рутта, Ношу, Сэддика – и еще тысячу тех, кто пока жив. Пускай негодуют, слыша ее мысли, ее стихи, которые рождаются посреди страдания. Пускай утверждают, что в них нет ни смысла, ни ценности, ни истины. Пускай. Она все равно их не отпустит.
Я не менее истинна, чем все, что вы видели. Умирающее дитя, брошенное миром на произвол судьбы. И вот что я вам скажу: нет на свете ничего более истинного. Ничего.
Бегите прочь, коли хотите. Но обещаю, что я от вас не отстану. Это моя единственная цель. Я – ожившая история. Я цепляюсь за жизнь, но проигрываю. Я олицетворяю все, о чем вы не хотите думать: полный живот, утоленную жажду, покой среди знакомых и любимых лиц.
Слушайте меня. Я предупреждаю вас: у истории есть когти.
Сэддик все волочил за собой мешок с побрякушками, сделанный из ненужных больше тряпок. Его личный клад. Его… скарб. Зачем они ему? Что они для него значат, все эти осколочки, блестящие камушки, обломки дерева? Каждый вечер, когда силы идти кончались, Сэддик садился, раскрывал мешок, перебирал и рассматривал свои сокровища. Почему Бадаль так это пугало?
Иногда он ни с того ни с сего начинал плакать. Сжимал кулаки, словно хотел раздавить побрякушки в труху. Тогда-то Бадаль поняла, что и Сэддик не знает, зачем они нужны. Бросать их он, однако, тоже не хотел. Этот мешок его убьет.
Она представила, как Сэддик – брат, о котором она всегда мечтала, – падает. Падает на колени, путается руками в рукавах, ударяется лицом о землю. Хочет подняться, но не может. А мухи слетаются к нему, пока полностью не закрывают от взгляда, превращая его в копошащуюся темноту.
Они поглотят последний вздох Сэддика. Выпьют последние слезы из глаз, которые совсем недавно еще видели. Проникнут в раскрытый рот, высушат его, будто паучью нору. А потом разлетятся в поисках нового сладкого источника жизни. На их место хлынут бабочки, которые сдерут с Сэддика кожу, пока не останется только скелет с мешком.
Сэддика не станет. Счастливый Сэддик, спокойный Сэддик призраком будет смотреть на свой мешок. И у меня будут слова на этот случай – на случай его ухода. Я встану над ним и, глядя на крылья, шелестящие подобно листве на ветру, в последний раз попытаюсь понять, что же это за мешок – мешок, который его убил.
И у меня не получится. Слова иссякнут. Ослабнут. Песня без смысла – все, что я смогу дать своему брату Сэддику.
Когда это время наступит, я пойму, что мне тоже пора умирать. Пойму, что пора опустить руки.
И она запела. Песню со смыслом – мощнейшую из всех.
Им оставался день, самое большее – два.
Этого ли я хотела? Всякое путешествие должно заканчиваться. Здесь нет ничего, кроме конца. Ни одного нового начала. Здесь у меня остались только когти.
– Бадаль. – Ее имя прозвучало тихо, словно ткань прошелестела.
– Рутт?
– Я больше не могу.
– Ты же Рутт, глава Змейки. А Ноша – ее язык.
– Нет, я не могу. Я ослеп.
Бадаль подошла к нему, всмотрелась в состарившееся лицо.
– Они просто распухли. Закрылись, Рутт. Глаза так защищаются.
– Но я не вижу.
– Здесь не на что смотреть.
– Я не могу вести вас за собой.
– Кроме тебя, некому.
– Бадаль…
– Просто иди, Рутт. Путь чист, даже камней не осталось. Насколько мне хватает глаз, кругом чисто.
Рутт всхлипнул, и в рот тут же налетели мухи. Он согнулся пополам, задыхаясь и кашляя. Бадаль едва успела поддержать его. Рутт выпрямился, не выпуская из рук Ношу. Было слышно, как они оба хнычут.
Жажда. Вот что нас сейчас убивает. Бадаль, сощурившись, посмотрела назад. Сэддика нигде не было. Может, он уже упал? Если так, то она не видела. Смутно знакомые лица других детей смотрели на них с Руттом. Ждали, когда Змейка снова сдвинется с места. Они стояли ссутуленные, пошатываясь. Животы распухли, словно каждый был на сносях. Глаза напоминали бездонные лужи, из которых пили мухи. На носах, ртах и ушах запеклись болячки. Кожа на щеках и подбородках потрескалась и поблескивала влажным под налипшими ленточками мух. У многих выпали волосы и зубы, кровоточили десны. И ослеп не только Рутт.
Наши дети. Смотри, что мы с ними сделали. Наши матери и отцы довели нас до этого и бросили, а теперь и мы бросаем их. Нет конца поколениям глупцов. Одно за другим, одно за другим, и на каком-то очередном этапе мы стали кивать, думая, что так и должно быть, а значит, незачем ничего менять. Вот мы и ходим с глупой ухмылкой, которую затем передаем своим детям.
Но у меня есть когти – ими я сорву эту ухмылку. Клянусь.
– Бадаль…
Она запела в голос. Без слов, сначала тихо, но затем все громче, пока не почувствовала, как другие голоса вступают в хор, наполняют воздух звуком. И этот звук был страшным, и что еще страшнее – мощь его росла. Росла.
– Бадаль?
У меня есть когти. Есть когти. Есть когти. Давай, ухмыльнись еще раз. Покажи свою ухмылку, прошу! Дай мне сорвать ее с твоего лица, дай вцепиться в него, проткнуть до самых зубов! Дай почуять кровь и услышать треск разрываемого мяса! Дай видеть твои глаза, когда ты поймешь, что у меня есть когти, есть когти, есть…
– Бадаль!
От чьего-то сильного удара она упала. Сквозь круги перед глазами проступило лицо Сэддика, круглое и обветренное. Красные слезы текли по его грязным иссохшим щекам.
– Не плачь, Сэддик, – прошептала Бадаль. – Не плачь. Все хорошо.
Рутт опустился рядом с ней и нашарил рукой ее лоб.
– Что ты сделала?
Тон его голоса напугал Бадаль. Ткань разорвана.
– Они слишком слабы, – произнесла она. – Слишком слабы, чтобы разозлиться. Поэтому я разозлилась за них – за всех вас…
Она осеклась. Из-под ногтей у Рутта сочилась кровь. В спину ей вонзались осколки хрусталя. Что?!
– Ты перенесла нас, – сказал Сэддик. – Это было… больно.
Теперь она услышала жалобные стоны и плач. Змейка корчилась в муках.
– Я… Я искала.
– Что искала? – спросил Рутт. – Что?
– Когти.
Сэддик опустил голову.
– Бадаль, мы же дети. У нас нет когтей.
Солнце померкло, и Бадаль, прищурившись, посмотрела мимо Сэддика. То были не бабочки. Мухи. Смотрите, сколько мух.
– У нас нет когтей, Бадаль.
– Правда, Сэддик, у нас – нет. Но у кого-то есть.
Сила песни, грозная как клятва, не отпускала Бадаль. У кого-то есть.
– Я отведу вас туда, – сказала она, глядя в расширившиеся глаза Сэддика.
Он отшатнулся, а Бадаль увидела небо – и рой мух чернее тучи, непрогляднее Бездны. Бадаль с трудом поднялась на ноги.
– Рутт, возьми меня за руку. Пора идти.
Она сидела, глядя на врата. Развалины Дома Кубышки под ними напоминали камушек, раздавленный каблуком. Из корней как будто сочилась кровь, прорезая канавки на склоне. Дом казался мертвым, но наверняка определить было нельзя.
Ничего почетного в поражении нет. Килава очень давно это поняла. Эпоха всегда завершалась распадом – последним усталым вздохом. Она видела, как ее народ оставил мир – жалкая насмешка под названием «т’лан имассы» на весах выживания была не тяжелее пыли. И она прекрасно понимала тайные желания Олар Этил.
Возможно, карга добьется своего. Духи свидетели, она созрела для искупления.
Килава соврала. Соврала всем: Онраку, Удинаасу, Улшуну Пралу и его клану. Выбора не было. Остаться там означало погибнуть, а взваливать такой груз на свою совесть она не могла.
Когда врата раскроются, в этот мир придут элейнты. Остановить их надежды нет. Т’иам не потерпит, чтобы ей кто-то перечил.
Единственным непредсказуемым фактором оставался Увечный бог. Форкрул ассейлы были довольно прямолинейны. Как и тисте лиосан, они придерживались безумия окончательных доводов. Прямо родственники по духу. Намерения брата Килаве тоже как будто были ясны. Она не собиралась ему мешать, и если ее благословение могло хоть чем-то помочь, она давала его от всего сердца. Нет, спутать карты мог только Увечный бог.
Килава помнила, какую боль испытывала земля, когда он упал с небес. Помнила его ярость и мучения, когда его только сковали. Однако на этом страдания не закончились. Боги возвращались снова и снова, ломали его, пресекая на корню всякие попытки найти себе место. Даже если он и молил о справедливости, никто не желал слушать. Даже если он выл от мук, боги лишь отворачивались.
Однако Увечный бог был не одинок – мир смертных полнился теми, кого так же мучили, ломали и не замечали. Если задуматься, боги сами и создали Падшего, обустроили ему место в пантеоне.
А теперь они его испугались. И решили убить.
– Потому что боги не откликаются на страдания смертных. Слишком много… хлопот.
Он должен знать, что они задумали, – в этом Килава не сомневалась. И он наверняка отчаянно ищет способ сбежать. Как бы то ни было, без боя он не сдастся. Не это ли главный смысл страдания?
Килава сощурила свои кошачьи глаза, вглядываясь во врата. Пылающий красный шов Старвальд Демелейна в небе продолжал расти.
– Уже скоро, – прошептала она.
Она убежит. Оставаться здесь слишком опасно. Перед разрушением, которое элейнты учинят в этом мире, меркнут даже мечты форкрул ассейлов. В мире, исполненном жалких смертных людей, начнется бойня, равной которой свет не видывал. Кто сможет встать на пути у гибели? Она улыбнулась.
– Кое-кто может. Но их слишком мало. Нет, друзья, вмешиваться не надо. Т’иам должна возродиться и вступить в схватку со своим древнейшим врагом. Хаос против порядка – как просто и как банально, но так и есть. Не становитесь у нее на пути – никто из вас не выживет.
А как же тогда ее дети?
– Что ж, дорогой брат, посмотрим. Сердце карги разбито, и она готова на все, лишь бы его исцелить. Презирай ее, Онос, – духи свидетели, большего она недостойна, – но не отворачивайся от нее. Не отворачивайся.
Как же все непросто.
Килава Онасс посмотрела на разрыв.
– Нет, не так. Это вообще ни на что не похоже.
В Доме Кубышки треснул камень. Из расколотых стен повалил красноватый дым.
– Кубышка была с изъяном. Слишком слабая, слишком юная.
Какое наследие можно найти в ребенке, брошенном на произвол судьбы? Сколько истин скрыты в ее крошечных косточках? Слишком много, чтобы их можно было представить.
Треснул еще один камень, будто цепь лопнула.
Килава снова обратила свое внимание на врата.
Остряк привалился спиной к огромному валуну, откинул голову на нагретую солнцем поверхность, закрыл глаза. Инстинкты, никуда от них не денешься. Его бремя в виде бога обратилось во внутреннее жжение, наполняя Остряка срочностью, которой он не понимал. Нервы были расшатаны, мышцы болели от усталости.
Он пересек бессчетное множество миров в поиске кратчайшего пути… куда? К вратам. Скоро грянет катастрофа. Ты этого боишься, Трейк? Почему бы просто не сказать, ты, жалкий поедатель крыс? Покажи мне врага. Покажи мне, кого убить, поскольку это единственное, что тебя радует.
В воздухе стоял смрад. Остряк слушал, как над трупами жужжат мухи. Он не понимал, где находится. Поляну окружали деревья с широкими листьями; в небе над ней кричали утки. Только это был не его мир. Он… отличался. Как будто его поразила болезнь, но не та болезнь, от которой погибли двадцать с лишним несчастных, которые лежали в высокой траве, покрытые кровоточащими язвами, из их растрескавшихся ртов торчали распухшие языки. Нет, то лишь симптом более глубокой хвори.
Этот мор – чьих-то рук дело. Кто-то призвал Полиэль и натравил на этих людей. Ты хотел продемонстрировать мне истинное зло, Трейк? Напомнить, какими ужасными мы бываем? Люди проклинают тебя, и твое гнилое прикосновение рушит жизни без конца, однако во всех мирах тебя знают.
Кто-то воспользовался тобой, чтобы убить этих людей.
Остряк думал, что столкнулся с худшими из людских пороков в Капастане, во время Паннионской войны. Целый народ, сошедший с ума. Впрочем, насколько он понимал истинную суть той войны, в сердце Домина скрывалось несчастное существо, охваченное неизбывной болью и оттого способное только кидаться на всех с клыками и когтями.
Где-то в глубине души он понимал, хотя сам он еще не был готов принять этого, что прощение возможно: от улиц Капастана до трона в Коралле, а то и дальше. Поговаривали о существе, чья жизненная сила удерживала врата запечатанными. Он мог проследить логику произошедшего, и понимание этого дарило что-то вроде умиротворения. С ним почти можно было свыкнуться.
Только не здесь. Какое преступление совершили эти несчастные, что заслужили подобное наказание?
Остряк чувствовал, как слезы сохнут на щеках. Это… непростительно. Тебе нужен мой гнев, Трейк? Я здесь за этим? Чтобы пробудиться? Долой стыд, горе и самобичевание – это ты мне хочешь сказать?
Спешу разочаровать: не помогло. Я вижу здесь лишь то, на что способен род человеческий.
Остряку очень не хватало Ганоса Парана. Итковиана. Друзей, с которыми можно поговорить. Они как будто были с ним в прошлой жизни, давно потерянной. Драсти. Эх, дружище, вот бы вам встретиться с твоим тезкой. Он бы тебе понравился. Ей бы пришлось силой гнать тебя и заложить дверь кирпичом, ведь ты бы напросился в отцы. Ты бы показал ей, что такое безусловная любовь к ребенку.
Скалла, ты так же тоскуешь по Драсти, как и я?
У тебя хотя бы есть твой сын. А я пообещал, что вернусь. Пообещал.
– Как бы ты поступил с этим, Господин Колоды? – обратился Остряк к поляне. – Что бы ты выбрал, Паран? Никто из нас не был доволен своей долей, но мы ухватились за нее. Взяли за горло. Думаю, ты еще не разжал свою хватку. А я? Ах, боги, как я все испортил.
Ему снилась какая-то черная фигура с окровавленными когтями и пастью, с которой свисают внутренности. Она лежала, задыхаясь в предсмертных корчах, на взрытой земле. Мороз пробирал до костей. Ветер хлестал так, словно воевал сам с собой. Что это было за место?
Боги, а не туда ли я направляюсь? Меня ждет битва. Ужасная битва. Она мой союзник? Моя любовь? Существует ли она?
Все. Пора прекратить эти мрачные мысли. Расслабились, и довольно. Остряк хорошо знал, что, если дать волю чувствам, откровенно их выразить, это вызовет лишь насмешку. «Не касайся нас тем, что чувствуешь. Мы тебе не верим». Раскрыв глаза, он огляделся.
На ветвях сидели вороны, но они еще не были готовы к пиршеству.
Остряк поднялся на ноги и подошел к ближайшему трупу. Совсем юноша: кожа похожа на начищенную бронзу, черные смоляные волосы заплетены в косичку. Одеяние как у степняка-рхиви. Каменные орудия, на поясе деревянная дубинка – изящно вырезанная в форме палаша, острие смазано маслом до блеска.
– Ты любил свой меч, да? Но он тебе не помог. Против такого меч бессилен.
Остряк повернулся лицом к поляне и распростер руки в стороны.
– Вы погибли бесчестно. Я предлагаю вам второй шанс.
Волоски на загривке вздыбились. Призраки подлетели ближе.
– Вы были воинами. Идите со мной и снова ими станете. Если вам суждено умереть, то вас ждет более достойная смерть. Это я вам пообещать могу.
Когда он провернул подобное в прошлый раз, его спутники были живы. До этого мгновения он даже не знал, получится ли преодолеть барьер смерти. Все меняется. Ох, не нравится мне это.
Призраки вернулись обратно в свои тела. Мухи метнулись врассыпную.
Прошло несколько мгновений, и конечности зашевелились, послышалось хриплое дыхание. Не можем же мы их так оставить, а, Трейк? А ну, ты, кусок бессмертного навоза, исцели их.
Поляна заполнилась силой, разгоняя проклятие этого мира, все проявления зла, которые царили здесь, наслаждаясь безнаказанностью. Они ушли. Развеялись.
Остряк вспомнил, как сидел у походного костра, а Драсти о чем-то распинался. Лицо его было подсвечено пламенем. В памяти всплыли слова:
– Нравится тебе это ли нет, Остряк, но война – двигатель цивилизации.
И кривая усмешка.
– Слыхал, Трейк? Я только что понял, зачем ты мне подарил эту способность. Все ради скорейшего достижения цели. Одной рукой благословляешь, другую протягиваешь за монетой. И тебе заплатят, что бы ни случилось. Что бы ни случилось.
Перед ним стоял теперь двадцать один молчаливый воин. Кожа очистилась, глаза горели. Он мог бы повести себя жестоко и просто забрать их.
– Он должен был сделать так, чтобы вы меня понимали. Наверное.
Воины осторожно закивали.
– Отлично. Вы можете остаться здесь, вернуться к сородичам – если они еще живы. Можете попытаться отомстить тем, кто вас убил. Однако вы знаете, что проиграете. Злу, разгулявшемуся на вашей земле, вы ничего не сможете противопоставить.
Он пожевал губами, подбирая слова.
– Вы воины. Если пойдете за мной, знайте, что нас ждет битва. Это наш путь. – Он сплюнул. – Можно ли в битве добыть славу? Идите со мной и узнаете.
Остряк пошел, и воины пошли за ним следом.
Когда он пробудил свою силу, они подбежали ближе. Это, друзья, называется слиянием. А это, друзья, тело тигра.
Огромного такого тигра.
Трое путников в странном облачении, которых они настигли на тропе, едва успели вскинуть палки, как Остряк уже врубился в них. Очень скоро от трех бледных людей ничего не осталось. Остряк ощутил удовлетворение спутников. И разделял его. Со злом можно сделать только одно. Схватить челюстями и раздавить.
А потом они покинули этот мир.
В каком месте кости выбрасывает на берег, словно обломки?
Маппо попытался разглядеть хоть что-то в плоской, слепящей от солнца пустыне перед собой. Из бесцветной, мертвой земли кактусами торчали осколки кварца и куски гипса. Идеально ровный горизонт был подернут жарким маревом, как если бы пустыня простиралась до самого края света.
Я должен ее пересечь.
Присев, Маппо поднял длинную кость, повертел в руках. Бхедерин? Похоже. Только маленький. А это, – он подобрал другую, – челюсть волка или койота. Значит, когда-то здесь была прерия. Что же произошло? Бросив кость обратно, он поднялся и глубоко вздохнул. Кажется… Кажется, я устаю от жизни – и от всего этого. Раньше было не так. Появляются трещины, все крошится. Изнутри. В самом средоточии моего духа.
Но у меня осталось одно дело. Всего одно – и покончим с этим. В который раз он почувствовал, как мысли цепями опутывают его и не дают выбраться – тянут вниз, истощают силы и волю, заставляют ползать кругами.
Всего одно дело. Главное – правильно распределить запасы. Укрепить волю. Лавировать между горькими истинами. На это у тебя еще хватит сил, Маппо. Должно хватить, иначе все было напрасно.
Я уже вижу край света. Он ждет меня.
Подтянув ремни на заплечном мешке, Маппо резво побежал вперед. Это просто пустыня, какие мне не раз случалось пересекать. Я не буду чувствовать ни голода, ни жажды. А навалится усталость – что ж, когда все закончится, отдохну.
Каждый шаг отдавался у него в сердце тревогой. Эта пустыня – больное место, гигантский шрам на теле земли. И хотя на жуткой ее окраине Маппо видел одну лишь смерть, была в пустыне и жизнь. Недружелюбная, неприятная. И целеустремленная.
Ты чувствуешь меня? Я ненавистен тебе? Я не хочу ссориться с тобой, друг. Пропусти меня, и мы больше не увидимся.
Маппо окружили мухи. Он перешел на трусцу, следя за дыханием. Мухи не отставали, и их становилось все больше. Смерть не наказание, а свобода. Я всю жизнь это наблюдаю. Против воли, вопреки оправданиям, которые придумываю себе. Всякой борьбе приходит конец. Вот только будет ли покой, ожидающий всех нас, вечным? Сомневаюсь. Так было бы слишком просто.
Худ, я ощущаю твое отсутствие. Что бы это значило? Кто теперь встречает умерших за Вратами Смерти? Так больно осознавать, что каждый из нас должен пройти через них в одиночку – и навеки остаться в одиночестве. Нет, это невыносимо.
Я мог бы найти себе пару. Осесть в деревне. Мог бы стать отцом, видеть в каждом ребенке немного от себя, немного от жены. Не в этом ли смысл жизни? Не для того ли мы рождены, чтобы наблюдать, как стежок за стежком создается бесконечным гобелен?
Я мог бы убить Икария. Впрочем, он бы догадался, у него на это чутье. Его безумие пробуждается настолько быстро, что я бы не успел ничего сделать. Убив меня, он бы затем обратил свой гнев на кого-то еще. Многие бы погибли.
Выбора не было. Причем никогда. Удивительно ли, что я так устал?
Облако из мух сжималось все плотнее. Насекомые лезли в глаза, но Маппо сощурил их до щелочек. Насекомые ползали вокруг рта, но поток воздуха из ноздрей отгонял их. Маппо происходил из народа скотоводов. Он знал, как вести себя с мухами, поэтому продолжал бежать, не обращая на них внимания.
Моя смерть заставила бы близких горевать, а в горе нет ничего хорошего. Оно сухое и горячее. Оно – это слабость, поселившаяся внутри. Оно подавляет жизнь… Нет, все же я рад, что не нашел себе жену, не завел детей. Мне невыносима мысль стать причиной их страданий.
Как можно столь безрассудно отдавать другому свою любовь, когда все непременно кончается предательством? Кто-то один всегда уходит, и никуда от этого не деться. Смерть есть наивысшая форма предательства, а потому как можно считать любовь равноправной?
Время шло, а Маппо все бежал. Солнце проделало половину пути по небу. Боль разливалась теплом по ногам, помогая сбросить гнет мыслей и опустошить сознание. Разве бег не прекрасен? Эта великая иллюзия спасения – спасения от демонов. Дальше, дальше, пока все слезы и напасти не останутся позади.
Бег прекрасен, да. И вместе с тем ненавистен. Нельзя сбежать окончательно. Нельзя обогнать себя и преследующие тебя невзгоды. Мы бежим ради сладостного изнеможения, очень похожего на смерть – с тем лишь отличием, что для этого не нужно умирать.
Поэты лучше всех разбираются в метафорах. Если жизнь – это поход, то бег – это жизнь, ускоренная до предела. Проделывать весь путь от рождения до смерти за день, снова и снова, – прекрасная привычка, которая не дает нам забывать неоспоримые истины. Множество маленьких смертей в угоду одной настоящей. Мы переживаем их в бесконечном разнообразии форм и получаем удовольствие от этого ритуала. Я мог бы бежать, пока не упаду. Пока все суставы, кости и мышцы не износятся. Я мог бы бежать, пока сердце не застонет и не разорвется.
Я мог бы посрамить поэтов, воплотив метафору в жизнь. Мы все стремимся к саморазрушению. Это часть нашей натуры. И мы будем бежать, даже если бежать некуда или не от чего. Почему? Потому что смысла нет ни в ходьбе, ни в беге, но ходьба к тому же еще и медленнее.
Сквозь мушиную завесу Маппо увидел, что впереди клубится нечто еще более черное, похожее на столп. Песчаная буря? Но здесь нет песка. Вихрь? Возможно. Но воздух неподвижен. Маппо присмотрелся, чтобы понять, куда чернота движется.
Она по-прежнему была точно впереди. И становится все больше.
Она движется прямо на меня.
Еще мухи?
Надрывное жужжание вокруг стало нестерпимее. Маппо, кажется, уловил смысл перемены тона. Вы ведь здесь не просто так. Вы ищете жизнь, а как найдете… то зовете других.
Теперь Маппо услышал гул, исходящий от тучи. Низкий и жуткий, он быстро перекрыл жужжание мух.
Саранча.
Но как так? Ей ведь нечем тут питаться. В этой пустыне совсем ничего нет.
Что-то здесь не так. Маппо замедлил бег. Остановился. Мухи еще немного покружили вокруг него, затем разлетелись. Маппо восстанавливал дыхание, не сводя глаз с надвигающегося вихря саранчи.
И вдруг его осенило.
– Д’иверс…
У подножия вихря клубилось что-то вроде белой пены, рассыпаясь вокруг барашками. Нижние боги. Бабочки.
– Вы все – мухи, саранча, бабочки – одно существо. Вы все живете в этой пустыне. – Маппо припомнил кости на окраине. – Вы же… ее и создали.
Бабочки волной накатили на него – за их крыльями он перестал видеть землю под ногами. От яростных взмахов у него на коже высох пот. Маппо задрожал.
– Д’иверс! Я желаю говорить с тобой! Обратись! Покажись мне!
Саранча скрыла собой половину неба и солнце, закружилась над Маппо и обрушилась на него.
Маппо упал на колени, согнулся и закрыл голову руками.
Насекомые вонзились ему в спину, словно град из дротиков.
Они валились и валились. Груз становился все больше. Затрещали кости. Маппо с трудом мог вдохнуть и стиснул зубы от боли.
Саранча, обезумевшая от запаха живой плоти, снова и снова пыталась жвалами впиться в Маппо.
Однако насекомые не знали, что кожа трелля тверже дубленой шкуры.
Прокусить Маппо саранча не могла, зато навалилась неподъемной тяжестью, готовая его раздавить. В просветах между сплетенными перед лицом пальцами он видел лишь черноту; с каждым вдохом в горло набивалась пыль. Оглушенный бессильным клацаньем, придавленный овеществленной тьмой, он мог лишь терпеть.
Сознание д’иверса коснулось Маппо. Не он один был мишенью гнева. Кто же тебя так ужалил? Кто прогнал тебя в твоей же пустыне? От кого ты бежишь?
Д’иверс был невообразимо древним. Он не обращался очень долгое время – тысячи лет, а то и больше. Разум уступил место примитивным инстинктам. Осколки, опалы, алмазы, камни, листья, кровопийцы… Слова проникали в голову Маппо из ниоткуда. Девичий голосок как будто напевал считалочку: осколки, опалы, алмазы, камни, листья, кровопийцы… Прочь!
С оглушительным ревом груз на спине разлетелся в стороны.
Маппо распрямился, запрокинул голову назад.
– Осколки, опалы, алмазы, камни, листья, кровопийцы – прочь. Прочь! Прочь!
Песня изгнания.
Туча взмыла вверх, завращалась и унеслась вдаль. Следом пролетел вихрь из бабочек, и наконец все стихло.
Маппо озадаченно повертел головой. Вокруг никого не было. Дитя, где ты? Такая мощная песнь… Ты форкрул ассейл? Не важно. Маппо благодарен тебе.
Он был весь в синяках. Кости ныли. Но все-таки живой.
– Будь осторожнее, дитя. Этот д’иверс когда-то был богом. Кто-то разорвал его, разорвал на столь мелкие кусочки, что он так и не смог восстановиться. Он не осознает себя; он чувствует лишь голод. Только ему не нужны ни ты, ни я, а что-то иное. Возможно, сама жизнь. Дитя, твоя песня обладает силой. Но будь осторожна: то, что можно изгнать, можно и навлечь на себя вновь.
До него опять донесся ее голосок – только теперь он звучал дальше и тише.
– Как мухи. Как мушиная песня.
Маппо кряхтя поднялся. Снял мешок, развязал и, порывшись, достал бурдюк. Сделал большой глоток, перевел дух, выпил еще, потом запихнул бурдюк обратно. Снова подтянув ремешки, он развернулся на восток и продолжил бежать.
К самому краю света.
– Красивый меч.
– Увы, но этот я оставлю себе. Тебе я отдам два летерийских.
Риадд Элейс прислонился спиной к неровной стене пещеры.
– Как они запечатлели драконов на клинке?
Силкас Руин рассматривал меч. Вороненая сталь переливалась в отсветах костра.
– Что-то здесь не так… – произнес он наконец. – Дом Хуст сгорел дотла вместе со всем – кроме Харканаса, конечно. Город уцелел… почти. Но Хустовы кузни были ценным призом, а если не можешь что-то взять – уничтожь.
Риадд повернул голову. В жемчужном небе снаружи занимался новый рассвет. Он пробыл один довольно долго. Когда проснулся, тисте анди уже сидел в пещере, словно его принесло ночью вместе со снегом.
– Я не понимаю ничего из того, что ты говоришь.
Белое лицо в свете костра приобрело почти человеческий оттенок, но пугающе красные глаза разрушали иллюзию.
– Мне казалось, я знаю все клинки, выкованные в Хустовых кузнях, даже малоизвестные.
– Этот едва ли выглядит малоизвестным, – заметил Риадд. – Он похож на оружие героя. Знаменитое. Нареченное собственным именем.
– Будь по-твоему, – кивнул Силкас. – Я хоть и стар, но все же не забыл древний завет: не доверяй теням. Нет, тот, кто дал мне этот меч, затеял какую-то игру.
– Тебе его кто-то дал? В обмен на что?
– Если бы я знал.
Риадд усмехнулся.
– Не заключай сделку, если не знаешь, что получит вторая сторона. Так мне однажды сказал Онрак. Или, может, Улшун Прал.
Силкас метнул в него грозный взгляд.
Риадд потянулся и встал.
– Ну что, выдвигаемся дальше?
Силкас убрал меч в ножны и тоже поднялся.
– Думаю, мы ушли уже достаточно далеко.
– В каком смысле?
– Я хотел отвести тебя прочь от Старвальд Демелейна и отвел. – Он повернулся к Риадду. – Вот что тебе нужно знать: твоя элейнтская кровь – это яд. Во мне она тоже есть. Мы с братом сами приняли ее – из необходимости. Ну и из жажды власти, конечно. С кровью Т’иам в наших жилах мы смогли принести мир в Куральд Галейн. Естественно, для этого пришлось сокрушить все Дома, не подчинившиеся нам. Что ж, прискорбно – это была единственная мысль, которую яд позволил нам испытать. Даже гибель тысяч не поколебала нас. И не помешала убить еще многие тысячи.
– Я не ты, Силкас Руин.
– И я сделаю все, чтобы так оно и оставалось.
Риадд подошел к выходу из пещеры и посмотрел на изломанные заснеженные скалы, белые от слепящего солнца. В тени снег синевой напоминал небо.
– Что же ты сделал, Силкас?
– То, что казалось… нужным, – произнес тисте анди у него за спиной. – Не сомневаюсь, что Килаве удалось выдворить твой народ из этого мира. Они не погибнут – не там, не тогда. Удинаас – умный человек, он сумел постичь прагматику выживания. Он уведет имассов отсюда и найдет им дом, где они смогут спрятаться от людей…
– Каким образом? – удивился Риадд. – Это же невозможно.
– Он обратится за помощью.
– К кому?
– К Сэрен Педак, – ответил Силкас. – Ее старая профессия может оказаться полезной.
– Ее ребенок уже должен был родиться.
– Да. И она знает, что его нужно защитить. Когда Удинаас придет к ней, она придумает, как объединить их задачи. Она отведет имассов в тайное место, где сама тоже сможет укрыться с ребенком. Под защитой Онрака и имассов.
– Почему нас просто не оставят в покое?!
Против воли Риадда этот вопрос прозвучал с болью, и он закрыл глаза, чтобы их не резал свет.
– Риадд Элейс, в реках водятся такие рыбы… Когда их мало, две или три, они ведут себя мирно. Но когда косяк растет и переваливает через определенный порог, рыбы сходят с ума, начинают жрать все вокруг. Они могут уничтожить жизнь в реке на лигу и расплывутся, только когда их животы начнут трещать по швам.
– Да при чем тут это?! – не сдержавшись, повысил голос Риадд.
Силкас Руин вздохнул.
– Когда врата Старвальд Демелейна откроются, оттуда толпой повалят элейнты. В основном молодняк, который сам по себе угрозы не представляет, но среди них будут последние Древние, гиганты ужасающей мощи. Но они неполноценны, они придут истреблять сородичей. Риадд, если бы мы с тобой остались противостоять открытию врат, мы бы лишились рассудка и бездумно примкнули бы к Буре элейнтов, последовали бы за Древними… Ты задумывался, почему во всех мирах, кроме Старвальд Демелейна, драконы никогда не сбиваются в группы более пяти-шести особей? И даже в этом случае ими должен управлять хотя бы один Древний. Ради безопасности элейнты предпочитают передвигаться тройками. – Силкас Руин подошел к Риадду и тоже посмотрел на долину. – Мы кровь от крови хаоса, и, когда нас слишком много в одном месте, кровь внутри закипает.
– Значит, – прошептал Риадд, – приходу элейнтов никто не сможет помешать.
– Это правда. Но здесь ты в безопасности.
– А как же ты?
Силкас Руин нащупал рукоять меча в ножнах.
– Пожалуй, сейчас я должен тебя оставить. Я этого не планировал и, признаться, не рад…
– То есть все, о чем мы говорили раньше, – ложь, – оборвал его Риадд. – Наша опасная миссия и прочее – вранье?
– Твой отец понял. Я пообещал ему, что спасу тебя, и слово сдержал.
– Зачем это тебе?
– Потому что, Риадд, ты и в одиночку опасен. А в Буре… Нет, на такой риск я пойти не могу.
– Значит, ты все же станешь сражаться с ними!
– Я буду сражаться за свою свободу…
– А с чего ты взял, что справишься? Все эти твои рассказы о Древних…
– Потому что я один из них, Риадд. Я – Древний.
Риадд изумленно смотрел на бледнолицего воителя.
– Ты мог бы подчинить меня, Силкас Руин?
– Не желаю даже пробовать, Риадд. Хаос развращает – ты знаешь, каково это. И вскоре узришь всю глубину своего проклятия. Я же научился противостоять соблазну. – Силкас вдруг улыбнулся, в голосе его прорезалась ирония. – Мы, тисте анди, хорошо умеем ограничивать себя во всем. Было достаточно времени научиться, знаешь ли.
Риадд поплотнее запахнулся в шкуры. В морозном воздухе его дыхание превращалось в клубы пара. Он сосредоточился, и очаг за спиной вспыхнул ярче, обдав его жаркой волной.
Силкас обернулся.
– Ты воистину сын своей матери, Риадд.
Он пожал плечами.
– Мне надоел холод. – Он посмотрел в глаза Силкасу. – Она тоже была Древним элейнтом?
– Да, первые несколько поколений одиночников относят к Древним. Тиамова кровь тогда еще не была разбавлена. Впрочем, так продолжалось недолго.
– Силкас, а в этом мире есть другие вроде тебя?
– Древние?.. Да, несколько, – ответил он, поколебавшись.
– А что они будут делать, когда грянет Буря?
– Не знаю. Но нас – тех, кто не был заперт внутри Старвальд Демелейна, – объединяет стремление к свободе и независимости.
– То есть они будут сражаться как ты.
– Возможно.
– Тогда почему я не могу сражаться рядом с тобой?
– Если мне придется защищать не только себя, но и тебя… скорее всего, я не справлюсь ни с тем, ни с другим.
– Но я сын Менандор…
– Да, и притом могучий. Но тебе не хватает самоконтроля. Если кто-то из Древних распознает, кто ты есть, он поработит твой разум.
– Представь, каким могущественным стал бы ты, Силкас, если бы проделал со мной такое.
– Теперь ты понимаешь, почему в пылу схватки драконы так часто предают друг друга. Мы нападаем на союзников из страха – пока они не напали на нас первыми. Даже в Бурю Древние не будут доверять равным, а окружат себя сонмом рабов, чтобы защититься от предательства.
– Какой ужасный подход к жизни.
– Ты не понимаешь. Мы не просто кровь от крови хаоса; мы жаждем вскипеть. Элейнты наслаждаются анархией, свержением королевств среди Башен, истреблением побежденных и невинных. Вид пламени на горизонте и стервятников энкар’л, кружащих над усеянным трупами полем, радует наше сердце, как ничто иное.
– И все это принесет с собой Буря?
Силкас Руин кивнул.
– Кто же сможет их остановить?
– Мои другие мечи, что рядом с твоим топчаном, Риадд Элейс. Это благородное оружие, хоть и порой несносное.
– Кто сможет их остановить?
– Поживем – увидим.
– И сколько я должен здесь ждать?
Взгляд Силкаса Руина был по-змеиному спокоен.
– Пока не поймешь, что пора уходить. Всего доброго, Риадд. Кто знает, может, мы еще встретимся. Когда снова увидишь отца, обязательно передай ему, что я сделал как обещал. – Помолчав, он добавил: – И скажи еще, что тогда с Кубышкой я поступил… поспешно. И за то я искренне прошу прощения.
– Это Олар Этил?
– Что? – переспросил Силкас, сощурившись.
– Ты ее собираешься убить?
– С чего вдруг?
– За то, что она сказала.
– Она сказала правду, Риадд.
– Она задела тебя. Нарочно.
Силкас пожал плечами.
– И что? Это всего лишь слова. Всего лишь слова.
Тисте анди наклонился вперед и рухнул в пропасть. Через мгновение он взмыл вверх – уже белым как кость и как снег внизу драконом, а крылатая тень неслась по земле за ним следом.
Риадд проводил дракона взглядом и отвернулся. Костер разгорелся с такой силой, что от жара клинки начали петь.
– Посмотри на себя, расселся в собственной блевоте. Что стало с великой гордостью Фенна – так ведь его звали? Теблорского короля-воина? Он умер, приятель, но тебе незачем так опускаться. Мерзкое зрелище. Возвращайся-ка в горы… Хотя нет, постой. Дай взглянуть на свою палицу. Сними с нее чехол, будь добр.
Он облизнул больные, кровоточащие губы. Рот у него словно распух изнутри. Нестерпимо хотелось пить, но ворота острога были заперты. Он спал, привалившись к ним, и всю ночь слушал песни постояльцев.
– Покажи его, теблор… Как насчет выгодного обмена?
Он попытался встать и выпрямиться.
– Не отдам. Это Элейнт’арал К’ет. Я прошел по Дорогам мертвецов – под тайным именем, – чтобы обрести его. Я своими руками сломал хребет форкрул ассейлу…
Стражник перебил его смехом.
– Значит, не две кроны, а четыре, что ли? Жнецов дух, ну ваша братия и горазда на выдумки. Прошел через Врата Смерти, говоришь? И вернулся живым? Серьезный подвиг для пьяницы теблора, от которого несет свиным дерьмом.
– Я не всегда таким был…
– Ну конечно, нет, приятель, однако сейчас я вижу другое. Ты отчаянно хочешь выпить, и между тобой и таверной стою только я. Немного похоже на Врата Смерти, скажи? Потому что если я тебя пропущу, то выйдешь ты уже вперед ногами. Хочешь пройти, теблор? Заплати Жнецу монету. Отдавай палицу.
– Не могу. Ты не понимаешь. Когда я вернулся… ты и представить не можешь. Я видел, где все мы будем. И когда я вернулся, то запил. Помогает забыть. Помогает спрятаться. Увиденное там сломило меня, вот и все. Ты ведь и сам видишь, как я сломлен. Прошу…
– Попрошаек тут точно не привечают. Либо платишь, либо уходишь восвояси – в эти свои леса, такие же сухие, как кошелка у старой карги. А за палицу я тебе дам целых три кроны. Даже тебе не пропить их за один вечер. Подумай: три. Вот, видишь, я протягиваю? Что скажешь?
– Отец.
– Отвали, парень, мы с твоим папашей тут дело обстряпываем.
– Нет, стражник, это оружие не продается…
– Это уже твоему папаше решать…
– Вы ее даже не поднимете.
– Я и не думал ее поднимать. Зато как эта палица будет смотреться на стене таверны у моего брата! Прямо над камином, на почетном месте для теблоров.
– Простите, господин. Я отведу его обратно в деревню.
– Ну так завтра вечером – или через неделю – он вернется. Слушай, парень, тебе его не спасти.
– Я знаю. Но убийцу драконов я сберечь смогу.
– «Убийцу драконов»? Громкое имя. Как жаль, что драконов не бывает.
– Сын, я не собирался ее продавать. Клянусь тебе…
– Я слышал, отец.
– А я нет.
– Старейшины приняли решение, отец. Покойный камень ждет тебя.
– Да?
– Эй, вы двое! Парень, ты что-то сказал о покойном камне?
– Господин, лучше бы вам притвориться, будто вы этого не слышали.
– Эта жестокость вне закона. Приказ короля! Папаша, твой сын говорит, что ваши старейшины собираются тебя казнить. Под огромным, чтоб его, валуном. Ты можешь попросить убежища…
– Господин, если вы заберете его за стены острога, у нас не останется выбора.
– Какого выбора? Что вы сделаете?
– Лучше бы вам не знать.
– Я зову капитана…
– Только попробуйте, и все вскроется. Вы правда хотите, чтобы теблоры вышли на тропу войны? Хотите, чтобы мы сожгли вашу еще не окрепшую колонию дотла? Хотите, чтобы мы перебили вас всех до единого – детей, матерей, пожилых и мудрых? Что сделает Первая империя, когда от колонии перестанут поступать вести? Отправит флот разбираться? И как в следующий раз мой народ встретит ваш на берегу? Как друзей или как врагов?
– Сын, погреби оружие вместе со мной. И доспех тоже. Прошу…
– Да, отец, – кивнул юноша.
– На этот раз, умерев, я не восстану.
– Это правда.
– Живи долго, сын; живи, пока можешь.
– Я постараюсь. Стражник?
– Убирайтесь с глаз моих. Оба.
Они вышли на лесную тропу. Прочь от острога – места, где теблоры продали все, что у них было, начиная с достоинства. Он держал сына за руку и не оглядывался.
– В мире мертвых выпивки не найдешь.
– Мне жаль, отец…
– А мне нет, сын. Мне – нет.
Ублала вскочил, протирая глаза.
– Меня убили! Снова!
Рядом зашевелилась Ралата. Она повернула голову, посмотрела на него осоловело и нырнула обратно под меховые одеяла.
Ублала поглядел по сторонам, увидел неподалеку Драконуса – тот не сводил глаз с востока, где медленно, играя лучами на каменистой пустоши, занималось солнце. Великан поднялся и утер лицо.
– Я голоден, Драконус. Меня знобит, ноги болят, под ногтями грязь, а в волосах кто-то копошится. Но трах был хорош.
Драконус обернулся.
– Я уже было засомневался, что она уступит, тоблакай.
– Ей было скучно. Скука – отличный повод, мне кажется. А тебе? Буду чаще вести себя так с женщинами, с которыми хочу трах.
Драконус вскинул бровь.
– Будешь склонять их к покорности занудством?
– А то! Как только мы найдем еще женщин, своим занудством я сражу их наповал. А это ты в дракона оборачивался? В дыму было не разглядеть. Ты так когда угодно можешь? Вы, боги, на этом прямо собаку съели. Эй, а откуда взялся тот огонь?
– Лучше начинай готовить завтрак, Ублала. Нас ждет дальняя дорога, и пролегает она через Путь. Не нравится мне эта пустыня.
Ублала почесал макушку.
– Если ты умеешь летать, почему не полетишь прямиком туда, куда тебе нужно? Мы с женой пойдем еще куда-нибудь. Там я закопаю палицу и доспехи. А лучше прямо здесь. Они нехорошие. От них плохие сны снятся…
– Я вас оставлю, Ублала, но не сейчас. А оружие, боюсь, в скором времени тебе понадобится. Доверься мне, друг.
– Ладно… Займусь завтраком. Это полпорося? А где вторая половина? Каждый раз задумываюсь, когда прихожу на рынок: где вторая половина порося? Убежала? Ха!.. Ралата, слышала? Я рассказал шутку! Ха-ха-ха!.. Как будто половинка порося может бегать! Нет, она будет скакать на двух лапках, вот так: скок-скок-скок!..
Из-под меховых одеял донесся стон Ралаты.
– Ублала.
– Да, Драконус?
– Ты веришь в справедливость?
– Что? Я все испортил, да? Это из-за шутки? Я больше не буду, обещаю!
– Ничего ты не испортил. Я хотел спросить, узнаешь ли ты несправедливость, когда увидишь ее?
Ублала отчаянно завертел головой.
– Не сейчас, друг, а вообще. Как ты поступаешь, когда видишь несправедливость? Борешься с ней или отворачиваешься в сторону? Думаю, я уже знаю ответ, но хочу услышать его от тебя.
– Я не люблю, когда делают плохо, Драконус, – пробормотал Ублала. – Я пытался объяснить это богам тоблакаев, когда те восстали из земли, но они не слушали, и нам со Стальными Прутьями пришлось их убить.
Какое-то время Драконус молча смотрел на него, затем сказал:
– Кажется, я только что совершил нечто подобное. Не закапывай свое оружие, Ублала.
Он вышел из палатки задолго до сумерек и прошел в хвост колонны. Солдаты спали плохо или совсем не спали, и не одна пара красных глаз провожала Рутана Гудда. Жажда распространялась как чума, лихорадкой сдавливала мозг. Она отгоняла всякие мысли, дожидаясь своего часа. Ни одна пытка не могла сломить дух так, как жажда.
Он шел мимо обоза с вяленым, сушеным и копченым мясом, завернутым в шкуры. Перед каждой повозкой лежала сложенная упряжь. Волов не осталось, теперь повозки тащили люди. Тащили никому не нужную еду. Без воды она сваливалась в кишках и вызывала страшные боли в животе, скручивая даже самых сильных.
За продовольственным обозом тянулись санитарные телеги, заваленные теми, кто сдался, кто сошел с ума от жары и обезвоживания. Группки вооруженных солдат, охраняющих бочки, которыми пользовались целители, производили тревожное впечатление. Дисциплина трещала по швам, и Рутан прекрасно понимал, к чему все идет. Жажда могла уничтожать целые цивилизации, а уж порядок и подавно. Еще чуть-чуть, и она превратит нас в зверей. Я чую, как ее дух витает над лагерем.
Жажда неумолимо подтачивала войско, грозя развалить его на части.
Алое, как открытая рана, солнце заняло западную сторону неба. Скоро проснутся треклятые мухи и станут плясать на открытых участках кожи – сперва вяло из-за вечерней прохлады, затем все живее, как будто у ночи сотня тысяч крохотных лап. А следом налетят тучи бабочек, серебристые, с изумрудно-зеленым отливом. Они уже успели накормиться останками забитых волов и теперь возвращались каждый вечер за добавкой.
Рутан прошел между телегами, время от времени кивая рудометам, которые ходили между страждущими, прижимая к иссохшим ртам смоченные тряпки.
За отхожими ямами караулов не было – ни к чему они там, – только выстроились вереницей могильные холмики, а могильщики рыли новые ямы заступами и лопатами. Под запекшейся на солнце коркой находился твердый как камень слой белого ила глубиной в человеческий рост. Время от времени в очередном отколотом куске попадались спрессованные рыбьи скелеты, подобных которым никто никогда не видел. Рутану Гудду как раз попался один такой: ржаво-красный череп с огромными глазницами и мощными челюстями с клыками в несколько рядов.
Он прислушался к вялым пересудам, мол, откуда могло взяться такое чудовище, но от себя добавлять ничего не стал. «Из самых глубин океана», – мог бы сказать он, но это вызвало бы множество ненужных вопросов, отвечать на которые совсем не хотелось. «А ты-то откуда знаешь?»
Хороший вопрос.
Нет, плохой.
Поэтому Рутан и промолчал.
Оставив могильщиков за спиной и не обращая внимания на их удивленные взгляды, он пошел по оставленной войском колее. Это была почти дорога, с которой убрали все острые камни, чтобы могли пройти тысячи сапог. Двадцать шагов от лагеря. Тридцать. Пожалуй, хватит. Рутан остановился.
Хорошо. Покажитесь.
Он молча копался пальцами в бороде и ждал, когда на тропе, обретая человекоподобную форму, взовьются пыльные вихри. От одного взгляда на т’лан имассов на душе у Рутана Гудда становилось тяжело. Неправильный выбор всегда сопровождается стыдом – лишь полный дурак станет это отрицать. Так что жить приходится не только с последствиями выбора, но и со стыдом. Впрочем, когда речь идет о т’лан имассах, жить не самое подходящее слово.
Несчастные дураки. Сделали себя слугами войны. Отказались от всего. Похоронили свою память. Притворились, будто совершили благородный поступок и нынешнее жалкое существование того стоит. Вот только с каких пор месть помогает чего-то добиться? Чего-то поистине ценного?
Я знаю все о наказании и расплате. Лучше бы не знал, но ничего не поделаешь. Главное – устранить то, что оскорбляет твое чувство справедливости. Как будто можно убить всех подонков и очистить мир от зла. Не скрою, было бы неплохо. Жаль, ничего не выйдет. Удовлетворение слишком мимолетно и на вкус подобно… пыли.
Ни одному поэту не под силу придумать более убедительную метафору тщетности, чем т’лан имассы. Тщетности и глупой упертости. Для войны обязательно нужен повод. Но вы его лишены. Все, ради чего вы сражались, прекратило существовать. Вы обрекли свой мир на забвение и гибель. А что осталось? Какая сияющая цель заставляет вас идти вперед?
Ах да, кажется, припоминаю. Месть.
Никаких пыльных вихрей – просто две фигуры возникли из завесы на западе, плетясь по следам охотников за костями.
Мужчина был высок ростом, плечист и потрепан. На каменном мече, который он держал в одной руке, чернела запекшаяся от жары кровь. Женщина выглядела изящнее большинства сородичей. На ней было одеяние из истлевшей тюленьей шкуры, а за плечом топорщились деревянные гарпуны с костяными наконечниками.
Не доходя пяти шагов до Рутана Гудда, т’лан имассы остановились. Мужчина склонил голову.
– Приветствуем тебя, Старший.
Рутан вздохнул.
– Сколько еще вас здесь?
– Я Кальт Урманал, а это Ном Кала, заклинательница костей из брольдовых т’лан имассов. Здесь нас только двое. Мы дезертиры.
– Вот как? У Охотников за костями дезертирство карается смертью. Вам это, впрочем, не грозит. Так что ответь мне, Кальт, как т’лан имассы наказывают дезертиров?
– Никак, Старший. Быть дезертиром уже само по себе наказание.
Рутан Гудд покачал головой и отвернулся.
– Кто возглавляет войско т’лан имассов, которое вы покинули?
Ответила женщина – Ном Кала.
– Первый меч Онос Т’лэнн. Старший, от тебя исходит запах льда. Ты яггут?
– Яггут? Нет. Я что, похож на яггута?
– Не знаю. Никогда их не видела.
Как так никогда?
– Это я просто давно не мылся, Ном Кала. – Рутан запустил пальцы в бороду. – Зачем вы преследуете нас? Что вам нужно от Охотников за костями?.. Хотя нет, об этом позже. Вы говорите, Первый меч Онос Т’лэнн ведет войско т’лан имассов. Какие кланы? Сколько заклинателей костей? Они идут по этой же пустыне? Как далеко от нас?
– Далеко на юге, Старший, – ответил Кальт Урманал. – Заклинателей мало, зато много воинов. Кланы все забытые – остатки армий, разбитых в ходе древних войн на этом материке. Онос Т’лэнн созвал их…
– Нет, – перебила его Ном Кала, – их созвала Олар Этил, когда возрождала Оноса…
Рутан выругался.
Т’лан имассы замолчали.
– Чем дальше, тем хуже… – Рутан снова вцепился себе в бороду и смерил немертвых воинов суровым взглядом. – Что вам известно о ее планах?
– Она хочет завладеть Первым мечом, Старший, – ответила Ном Кала. – Она ищет… искупления.
– Это она сама тебе сказала, заклинательница?
– Нет, Старший. Она сторонится Оноса Т’лэнна. Пока что. Вот только я родилась на этой земле. Олар Этил не может идти по ней, скрывая силу своих желаний. Она движется на восток, параллельно Оносу Т’лэнну. – Помолчав, Ном Кала добавила: – Первый меч знает про нее, но ничего не предпринимает.
– Он детоубийца, Старший, – произнес Кальт Урманал. – Черная река затопила его разум и увлекла своим течением всех, кто решил последовать за Первым мечом. Намерения его нам неведомы, как неведом и враг, которого он изберет. Мы знаем только, что он хочет полного уничтожения, но чьи кости усеют землю – не важно.
Слова воина пробрали Рутана до дрожи.
– Что довело его до такого состояния? – спросил он.
– Она, – ответила Ном Кала.
– Он об этом знает?
– Да, Старший.
– Так, возможно, Олар Этил и есть его враг?
Т’лан имассы какое-то время молчали, потом подал голос Кальт Урманал:
– Такой вариант нам в голову не приходил.
– Похоже, она его предала, – заметил Рутан. – Почему бы ему не ответить тем же?
– Когда-то он был честным и благородным, – сказал Кальт. – Сейчас его дух истерзан. Онос Т’лэнн идет один, и ему все равно, кто за ним следует. Старший, наше племя склонно к… избыточности чувств.
– Я об этом не знал, – сухо произнес Рутан. – Что ж, вы бежали из одного кошмара, но угодили в другой.
– Ваш путь усеян страданиями, – кивнула Ном Кала. – Идти по нему нелегко. Вам не пересечь эту пустыню. Никому из смертных такое не под силу. Здесь погиб бог…
– Я знаю.
– Здесь же он и остался.
– И это я знаю. Он рассыпался на миллион частей, и каждая из них продолжает жить. Как д’иверс. Только ему уже никогда не вернуть себе единое обличье – слишком много времени прошло. – Рутан отмахнулся от мух. – Он обезумел, ничего не понимает, им движет лишь одно жалкое стремление. В этом он мало отличается от вас.
– Да, мы пали низко и не отрицаем этого, – произнес Кальт Урманал.
Рутан Гудд, ссутулившись, опустил голову.
– Как и все мы, т’лан имасс. Боюсь, здешние страдания заразны. Проникают внутрь, отравляют мысли. Прошу прощения за свои слова…
– Тебе не за что извиняться, Старший. Ты сказал правду. Мы пришли сюда, потому что заблудились. Что-то по-прежнему удерживает нас здесь, хотя забвение продолжает манить обещанием вечного покоя. Возможно, как и тебе, нам нужны ответы. Возможно, как и ты, мы ищем надежду.
Внутри у Рутана все сжалось с такой силой, что он отвернулся. Какая мерзость! Нечего их жалеть!
– Вы не первые, – проговорил он, сдерживая слезы. – Позволь мне призвать ваших родичей.
За его спиной из пыли восстали пятеро воинов.
Уругал Сплетенный сделал шаг вперед.
– Теперь нас снова семеро. Дом Цепей наконец в сборе.
Слышишь, Падший? Все в сборе. Не думал, что у тебя получится. Правда не думал. Сколько времени ты готовил эту повесть, эту свою беспощадную книгу? Все заняли свои места? Ты готов предпринять последнюю, обреченную попытку обрести… то, к чему ты так стремился?
Боги сплотились против тебя.
Твой яд ослабил засовы на вратах, и они вот-вот распахнутся, впуская в этот мир разрушение.
Были те, кто решился расчистить тебе путь. Многие погибли. Одни – достойно, другие – нет. Но ты принял всех, со всеми их пороками – и слабых, и бесполезных. Ты их принял и благословил.
Но пощады ты им все равно не дал. С другой стороны, с чего бы?
И со всепоглощающим отчаянием Рутан понял, что никогда не постигнет в полной мере приготовлений Увечного бога. Как давно они начались? В каких далеких землях? Чья смертная рука дала событиям ход?.. Я этого никогда не узнаю. И никто не узнает. Как бы все ни завершилось, никто не узнает. У него, как и у нас, не было свидетелей. Кажется, я начал понимать адъюнкта, только что это меняет?
Книга навеки останется загадкой. Шифром, который не прочесть.
Подняв глаза, Рутан увидел, что рядом никого нет.
За ним медленно поднималось войско.
«Смотри, рождается ночь, и с нею нам по пути». Очень верно подмечено, Галлан. Погребальная бригада скидывала замотанные тряпьем тела в яму. Кто все эти несчастные? Как их звали? Как они жили? Кто-нибудь знает? Хоть кто-нибудь?
– И не вскрыл ни единого бочонка?
– Нет, – мотнул головой Порес. – Ему так же тяжело, как и всем нам, сэр.
Добряк фыркнул и посмотрел на Фарадан Сорт.
– Все хуже, чем я ожидал.
– Есть разные степени отчаяния. Он просто не достиг нужной, – произнесла она. – Ничего, достигнет. Вопрос в том, Добряк, что делать тогда? Выдадим его солдатам, пусть рвут на части? Адъюнкт об этом знает?
– Мне понадобятся еще охранники, – сказал Порес.
– Я поговорю с капитаном Скрипачом, – пообещал Добряк. – Назначим на эти посты морпехов и тяжей. С ними никто связываться не посмеет.
Порес нацарапал что-то на своем восковом планшете, перечитал и кивнул.
– Основной мятеж зреет среди тянульщиков. Эта еда убивает нас. Конечно, от сушеного мяса текут какие-то соки, но это все равно что жевать бхедеринов послед, который десять дней пролежал на солнце.
Фарадан Сорт закашлялась.
– Стена и бойницы! Порес, картину поприятнее изобразить не мог?
Тот вскинул брови.
– Кулак, я весь день ее выдумывал!
Добряк поднялся.
– Сегодня будет дурная ночь. Скольких еще мы потеряем? И так все кожа да кости, что твои т’лан имассы.
– Хуже, чем бал-маскарад у некроманта, – вставил Порес.
Фарадан Сорт снова закатила глаза, и он, криво усмехнувшись, вернулся к своей восковой табличке.
– Порес, береги Блистиговы запасы как зеницу ока.
– Так точно, сэр!
Добряк вышел из шатра, и одна стена вдруг просела.
– Они собираются меня сложить, – произнес Порес, встал с табуретки и, поморщившись, схватился за поясницу. – Я будто лет на тридцать постарел.
– Как и все мы, – проворчала Сорт, собирая амуницию. – Живи теперь с этим.
– Буду, пока не умру.
Фарадан Сорт задержалась на пороге шатра. Просела еще одна стена.
– Ты делаешь неверные выводы, Порес. Есть способ все преодолеть. Должен быть.
Он скривился.
– Вера в адъюнкта по-прежнему крепка? Завидую я вам, Кулак.
– Не ожидала, что ты так легко сдашься, – произнесла она, пристально глядя на Пореса.
Тот убрал планшет в шкатулку и поднял глаза.
– Кулак, сегодня ночью тянульщики бросят канаты, сказав, что не станут тащить повозки больше ни шага, и мы продолжим марш без еды. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что мы сдались и что выхода нет. Кулак, очень скоро Охотники за костями вынесут себе смертный приговор. Вот с чем мне придется сегодня иметь дело. Одному, еще до того как вы явитесь.
– Так не допусти этого!
Он бессильно посмотрел на нее.
– Как?!
Фарадан Сорт поняла, что дрожит.
– Ты сможешь охранять воду с одними морпехами?
Порес озабоченно наморщил лоб, затем кивнул.
Кулак оставила его в оседающем шатре и пошла прочь, виляя между солдатами, собирающими лагерь. Скрипач, поговори с тяжами. Пообещай мне, что мы справимся. Я не готова сдаваться. Я не для того выжила на Стене, чтоб сдохнуть от жажды посреди гребаной пустыни.
Блистиг еще мгновение сверлил Шелемасу взглядом, затем обратил свой ненавидящий взор на хундрильских лошадей. Он прямо чувствовал, как в нем закипает гнев. Сучка, только посмотри, что ты с нами делаешь. И все ради войны, которая никому здесь не нужна.
– Просто убей их, – приказал он Шелемасе.
Девушка мотнула головой.
Лицо Блистига налилось кровью.
– Мы не можем тратить воду на лошадей!
– А мы и не тратим, Кулак.
– Как это?
– Мы отдаем лошадям свою долю. А потом пьем из них.
– Вы пьете их мочу? – недоверчиво переспросил Блистиг.
– Нет, Кулак. Их кровь.
– Нижние боги…
Удивительное ли дело, что вы выглядите как полутрупы? Массируя виски, Блистиг отвернулся. Ну же, скажи ей правду. Больше у тебя ничего не осталось.
– Вы уже совершили свой кавалерийский натиск, – сказал он, глядя, как мимо проходят – не туда – тяжи. – Другого не будет. К чему все это?
Повернувшись, он увидел, как Шелемаса побледнела. Что ж, никому не нравится слышать правду.
– Пришло время говорить непростые вещи. Вы бесполезны. Вы потеряли военного вождя, и вместо него теперь старуха, к тому же беременная. Вам не хватает воинов, чтобы даже распугать грибников. Адъюнкт взяла вас с собой из жалости. Ты что, не понимаешь?
– Довольно! – раздался чей-то голос.
Блистиг обернулся. За ним стояла Ханават. Он оскалил зубы.
– Рад, что ты тоже это слышала. Убейте проклятых лошадей. Они бесполезны. Так надо.
Глаза Ханават были бесстрастны.
– Кулак Блистиг, пока вы прятались за драгоценными стенами Арэна, виканцы из Седьмой армии воевали в долине. Они атаковали врага вверх по склону. Они выиграли ту битву, хотя выиграть ее казалось невозможным. Как? Я вам расскажу. Их шаманы выбрали одну лошадь и стали питаться ее духом. Они плакали, но испили его до конца. Лошадь погибла, но невозможное свершилось, потому что Колтейн не был согласен на меньшее.
– Ах, значит, я прятался за гребаными стенами?! Я командовал гарнизоном, где еще мне было находиться?
– Адъюнкт попросила нас сберечь лошадей, и мы их сбережем, Кулак. На меньшее она не согласна. Если что-то не нравится, жалуйтесь напрямую ей. И вообще, хундрилы вам не подчиняются. А от себя добавлю, чтобы вы здесь больше не появлялись.
– Ну и ладно. Давитесь лошадиной кровью и дальше. Я лишь хотел вам помочь, а вы говорите гадости.
– Я знаю, что вы на самом деле хотели сказать, Кулак Блистиг, – холодно произнесла Ханават.
Он твердо выдержал ее взгляд, затем пожал плечами.
– От шлюхи слышу. – И развернувшись, он ушел.
Шелемаса прерывисто вздохнула и подошла ближе к Ханават.
– Мама?
Та покачала головой.
– Все в порядке, Шелемаса. Блистига одолела горячка от жажды. Только и всего.
– Он говорил, что мы бесполезны. Я не потерплю жалости – ни от кого! Мы, хундрилы…
– Адъюнкт верит в нас, как и я. А теперь давай займемся животными. У нас достаточно корма?
Шелемаса тряхнула головой, затем кивнула.
– Даже больше, чем нужно.
– Хорошо. А воды?
Шелемаса поморщилась.
Ханават вздохнула и с кряхтеньем прогнулась в пояснице.
– Я слишком стара, чтобы считать ее своей матерью… Но все равно считаю, – сказала она. – Мы еще дышим, Шелемаса. И еще можем идти. Пока что этого достаточно.
Шелемаса подошла ближе, насколько осмелилась.
– Ты рожала на свет детей. Ты любила мужчину…
– Многих мужчин, если честно.
– Я думала, что однажды смогу то же сказать и про себя. Думала, что смогу оглянуться в прошлое с удовлетворением.
– Ты не заслуживаешь смерти, Шелемаса. В этом я не могу с тобой не согласиться. И ты не умрешь. Мы сделаем для этого все возможное. Мы переживем это…
Ханават вдруг осеклась. Шелемаса подняла глаза и увидела, что мать смотрит на лагерь хундрилов.
Оттуда возник Голл, а рядом с ним стояла Джастара – вдова его старшего сына. Шелемаса закрыла Ханават собой от их глаз, а затем подошла.
– Военный вождь, – прошипела она, – сколько еще ты собираешься ее ранить?
С последнего разговора воин будто постарел на десяток лет, но это не умаляло ее гнева. В нежелании встречаться взглядом она видела только трусость.
– Этой ночью мы идем к сыновьям, – сказал Голл. – Передай ей. Я не желаю ее ранить. Сегодня или завтра. Скоро.
– Скоро, – сурово подтвердила Джастара. – Я снова увижу своего мужа. Я встану рядом с ними…
Шелемаса скривилась от отвращения.
– После того как переспала с его отцом? Как думаешь, Джастара, его дух сейчас здесь? Он видит тебя? Знает, что ты сделала? И ты еще смеешь утверждать, что встанешь рядом с ним?! Да ты с ума сошла!
Под таким словесным напором Джастара попятилась. Кто-то положил руку на плечо Шелемасе, и она обернулась.
– Ханават… не надо…
– Ты так бойко защищаешь меня, Шелемаса. За это я тебе бесконечно благодарна. Но с мужем я поговорю сама.
Джастара тем временем протолкнулась сквозь собравшуюся толпу и убежала. Несколько пожилых женщин успели ударить ее. Дюжина детишек со смехом смотрели ей вслед, а одна девочка даже наклонилась за камнем…
– Положи на место, разведчик!
От резкого оклика та замерла.
В лагерь хундрилов за своими разведчиками пришел капитан Скрипач. Он взглянул на Голла, Ханават и Шелемасу. На мгновение показалось, что он просто сделает свои дела и уйдет, но он вдруг подошел к ним.
– Не сочтите за грубость, матерь Ханават, но у нас нет времени на этот идиотизм. Ваши истории – это всего лишь груз, который вы повсюду за собой таскаете. Вождь Голл, вы вещаете обо всяких страстях, но лишь впустую тратите силы. Мы не слепы. Вопрос только в том, как вы встретите свой конец? Как подобает воину или на коленях, Худ вас дери? – Не обращая внимания на остальных, Скрипач подозвал к себе разведчиков: – Этой ночью мы в дозоре. Берите копья и выдвигаемся. Армия готова к походу.
Шелемаса смотрела, как малазанец уводит детей.
Ханават тихо рассмеялась.
– «Не сочтите за грубость», говорит, а сам втаптывает нас в грязь.
– Мама…
– Нет, Шелемаса, он прав. Вот мы стоим, и у нас нет ничего, кроме нашей гордости. И как она нас тяготит. Что ж, этой ночью я попробую ступать легче… В конце концов, что мне терять?
Только своего ребенка.
Ханават как будто прочитала мысли Шелемасы и коснулась ладонью ее щеки.
– Я умру первой, и мое дитя сразу вслед за мной, – прошептала она. – Если такому суждено случиться, я это приму. Как и все мы должны. – Она повернулась к мужу. – Но на колени мы не встанем. Мы – хундрилы. Мы – «Выжженные слезы».
– Если бы я не повел нас к Арэну, наши дети были бы живы. Ханават, я погубил наших детей, и мне… мне нужна твоя ненависть.
– Я знаю, муж.
Шелемаса видела мольбу в покрасневших глазах Голла, но Ханават ничего больше не сказала.
– Жена, – повторил он, – «Выжженные слезы» погибли во время натиска.
Ханават лишь молча покачала головой, взяла Шелемасу за руку и повела ее в лагерь. Пора было проверить лошадей и выдвигаться. Шелемаса украдкой оглянулась и увидела, что Голл стоит один, закрыв лицо руками.
– От горя, – вполголоса проговорила Ханават, – люди сделают что угодно, лишь бы избежать неизбежного. Поди к Джастаре, Шелемаса. Ты должна извиниться за свои слова.
– И не подумаю.
– Судить не тебе, но как часто первыми судят именно те, кому не положено этого делать, причем с таким жаром и ядом? Поговори с ней, Шелемаса. Помоги ей примириться с собой.
– Но как, если от одной мысли о ней меня наполняет отвращение?
– Я и не говорила, что это будет легко, дочка.
– Я подумаю.
– Хорошо. Главное – не затягивай.
Войско пришло в движение, как вол, погрязший в трясине, но продолжающий из последних сил тянуть за собой телегу. Скрипя колесами, повозки двигались за тянульщиками, взявшими канаты и надевшими упряжь. Позади остались с полсотни палаток, разбросанные котелки и грязная одежда, валявшаяся, словно попранные знамена.
Мухи тучами клубились над ссутуленными, молчаливыми солдатами. Нефритовые путники в небе горели ярче луны, и в их свете Лостара Йил различала все узоры на раскрашенных щитах регулярных солдат, которыми они закрывали спины от насекомых. В мертвенно-зеленоватом свечении исхудавшие, резко очерченные лица казались мертвыми, а пустыня вокруг приняла неземной облик. Стаи бабочек клубами тумана разлетались впереди.
Лостара смотрела на адъюнкта. Та поплотнее запахнула плащ и надела капюшон. Она все чаще лично возглавляла авангард, держась на пять-шесть шагов впереди остальных, за исключением трех десятков хундрильских ребятишек, которые рассыпались в ста шагах от войска. Разведчики, которым нечего разведывать.
– В Синецветье есть праздник Чернокрылого Владыки, – произнес шедший рядом Хенар Вигульф. – Он отмечается раз в десять лет в самую длинную ночь зимы. Верховная жрица закутывается в плащ и ведет процессию по улицам.
– Чернокрылый Владыка – это ваш бог?
– Негласно. Летерийцы всегда настороженно относились к нашим верованиям. Любые ритуалы строго воспрещались, кроме, пожалуй, этого.
– Вы отмечали самую длинную ночь года?
– Не совсем. Это земледельцы отмечают конец года и приход посевной… В Синецветье почти ничего не растили – мы в основном были народом мореплавателей. Ну, водным. Думаю, целью ритуала было призвать нашего бога. Я никогда в тонкостях не разбирался. Как я уже сказал, праздник проводили только раз в десять лет.
Лостара ждала. Хенар не отличался болтливостью – хвала Худу! – но когда говорил, то обычно сообщал что-то стоящее. В конце концов.
– Укрытая капюшоном, жрица шла по пустынным улицам, а за нею молча следовали тысячи горожан. Дойдя до кромки воды, они останавливались вне досягаемости прибоя. К жрице подходил послушник и передавал ей фонарь. И когда занимались первые лучи рассвета, она швыряла фонарь в воду, где он и гас.
Лостара хмыкнула.
– Занятный ритуал. Вместо фонаря зажигалось солнце. Похоже, главной целью было все же поклонение новому дню.
– А потом она доставала церемониальный кинжал и вспарывала себе горло.
Лостара Йил ошарашенно воззрилась на Хенара, но слов не находила. Здесь нечего было сказать. Вдруг ее осенило.
– И летерийцы позволили вам оставить этот праздник?
– Да, они устраивались на берегу и смотрели. – Он пожал плечами. – Для них это, наверное, значило, что на одну надоедливую Верховную жрицу становилось меньше.
Лостара снова посмотрела на адъюнкта. Та как раз выдвинулась вперед. Закутанная фигура, полностью укрытая от остальных простым капюшоном. Солдаты постепенно следовали за ней, не издавая никаких звуков, только глухо топали сапоги и позвякивали доспехи. Лостара Йил поежилась и наклонилась поближе к Хенару.
– Это из-за капюшона, – пробормотал тот. – Просто похоже.
Лостара кивнула и в испуге отогнала мысль о том, что история может повториться с ними.
– Не верю, что умер и ожил ради этого.
Вал хотел сплюнуть, но жидкости во рту не хватало, а тратить воду на такие пустяки было безумием. Он с завистью посмотрел на трех волов, что тянули повозку Баведикта.
– Может, поделишься, чем ты их поишь? Выглядят очень бодро. Нам бы всем не помешал глоточек-другой.
– Сомневаюсь, командир, – ответил Баведикт, придерживая поводья. – Они уже три дня как мертвы.
Вал присмотрелся к ближайшему животному.
– Что ж, должен признать, это впечатляет. А старина Вал о чем попало такого не говорит.
– По Летерасу бродят десятки людей, которые на самом деле мертвы. Некромантическая алхимия – одно из наиболее развитых «неприятных искусств» среди летери. Из всех моих зловредных снадобий главным спросом пользовалось именно то, которое даровало бесконечное посмертное существование… Насколько вообще что-то, что стоит целого сундучка золота, может пользоваться спросом.
– А на всю армию такое наготовить получится?
Баведикт побледнел.
– К-командир, э-э, как бы сказать, приготовление чудовищно сложно. На один флакон уходят месяцы каторжного труда. Главный ингредиент – денатурированные головастики утулу. За ночь едва ли выдавишь три капли, а собирать их страшно рискованно, к тому же трудоемко, даже для такого профессионала, как я.
– Головастики утулу.? Ни разу не слышал. Ну и ладно, просто спросил… Хотя, у тебя еще осталось?
– Нет. Я рассудил, что «Мостожогам» нужнее всего снаряды, которые я везу…
– Тс-с! Не произноси это слово, олух!
– Прошу прощения. Наверное, нам следует придумать какое-то специальное обозначение – достаточно невинное, чтобы им можно было свободно пользоваться.
Вал почесал щетинистый подбородок.
– А это мысль… Как насчет «котяток»?
– «Котяток»? Почему бы и нет? В общем, сами понимаете, бросить целую повозку котяток мы не можем. А тянуть ее не хватит сил и у роты «Мостожогов».
– Правда? И сколько же у тебя там… ну, котяток?
– Это все сырье, командир. Бутылки, бочонки, флаконы и… трубки. Конденсаторы, дистилляторы. Без… э-э… двух разнополых кошек котятки не получатся.
Вал недоуменно вскинул бровь, а затем кивнул.
– А, ну да, конечно. Понятно.
Он посмотрел направо, где с ними поравнялся взвод морпехов, но все их внимание было сосредоточено на возе с едой и водой, который они охраняли. Так заключил Вал по воинственному виду и тому, как морпехи держались за рукояти мечей.
– Что ж, тогда продолжай работать, Баведикт. Котяток ведь много не бывает?
– Именно, командир.
Бутыли, шедшая вместе с Сальцо чуть позади, наклонилась к напарнице.
– Знаешь, и у меня как-то были котятки.
– Еще бы, дорогая. Странник свидетель, ты кому хочешь за монетку отдашься, – буднично отозвалась Сальцо.
Главной его чертой было чванство, это я помню. И как меня мутило, а в животе будто угли пылали, когда он приходил домой, тоже помню. Матушка порхала как пташка – вроде тех, что не могут найти себе подходящую ветку и подходящий листочек. Ее глаза метались то к нему, то от него. Однако она с первого взгляда понимала, что назревают неприятности.
Тогда она подбиралась поближе ко мне. Как цыпленок во дворе или синица на дереве. Только поделать она все равно ничего не могла. Папаша весил вдвое больше нее. Однажды он швырнул ее так, что она пробила хлипкую стену их хибарки. Это было для папаши ошибкой, ведь так все снаружи увидели, что творится у нас внутри. В моей семейке.
Похоже, кому-то из соседей или просто прохожих увиденное не понравилось. На следующий день папашу приволокли под двери избитым до полусмерти, и мы – матушка да я с братом (он тогда еще не сбежал) – принялись его выхаживать.
Ну не идиотизм ли? Надо было лишь довершить то, что начали сочувствующие соседи.
Надо было.
Чванство и матушкина заботливость.
Помню день, когда все закончилось. Мне было семь, почти восемь. Тихоню Гинанса, точильщика ножей, жившего выше по улице, нашли задушенным в переулке за его лавкой. Народ взнегодовал. Гинанс был уважаемым ветераном Фаларских войн и, хотя имел слабость до выпивки, по пьяни не буйствовал. Вовсе нет. Спьяну он лишь порывался соблазнить всякую женщину, которую видел. Милая душа – так поговаривала матушка, размахивая руками, точно крыльями.
В общем, народ был недоволен. Гинанс той ночью напился и за себя постоять не мог. Его задушили веревкой из конского волоса – помню, как все говорили, что на шее Гинанса нашли конские волоски. Я тогда не понимал, почему все так на это напирали.
Три старухи, жившие в доме на углу, то и дело поглядывали на нас. Мы стояли на улице и слушали людские пересуды, которые становились все разгоряченнее. Матушка была бледная, словно ощипанная. Папаша сидел на лавке у двери. Руки у него пошли сыпью, и он медленно втирал в ладони жир. Смотрел он как-то странно и в кои-то веки не высказывал своего мнения.
Конский волос. Традиция у жителей околицы – лесорубов к востоку от города. «Насколько хорошо одарены любодеи?» Старухи кивали. «Вот только бедный Гинанс был…» – «Да ничего он не мог. Понимаешь, его всего там опалило. Корабль, на котором он служил, загорелся, когда брали Фаларскую гавань. С тех пор он был ни на что не способен».
Пьяный соблазнитель, лишенный естества. Какое издевательство судьбы, аж сердце разрывается.
И он всегда был добр с матушкой, ходившей к нему точить единственный ножик. Только что это меняло?
– С таким лезвием и мышка не побреется, ха! Эй, пацан, твоя матушка не дает тебе брить мышей? Стоит потренироваться, пока своя под носом расти не начала. Еще несколько лет, и начнет.
«Вот тебе и ревнивец, – сказал кто-то из толпы. – Ревнивец, к тому же еще и тупой. С пнем вместо головы». Кто-то рассмеялся, неприятно так. Народ что-то знал. Народ что-то понял. Народ что-то замыслил.
Матушка беззвучно скользнула в дом, будто пташка в терновый куст. Я пошел за ней, думая о бедняге Гинансе и о том, кто же теперь будет точить ей нож. А следом за мной вошел и папаша. С его ладоней капал расплавленный жир.
Не помню точно, что я увидел. Какая-то вспышка. Папашкино лицо близко-близко, и где-то под его огромным заросшим подбородком что-то булькнуло. Колени у него подкосились, и он начал заваливаться – прямо на меня. Я отскочил, споткнулся о порог и грохнулся в пыль рядом с лавкой.
Папаша сплевывал, но не ртом, а горлом. Когда он упал на колени и развернулся, будто хотел выйти на улицу, у него вся грудь была в чем-то влажном и ярко-красном. Я заглянул ему в глаза и в первый и единственный раз в жизни с ним увидел там что-то человеческое. Быстрый промельк, который тут же погас.
Папаша завалился на порог, а над ним с ножиком в руке стояла матушка.
– Вот, малыш, держи, только аккуратно. Такой острый, что можно мышь обрить. Мостожогова магия, на что способна добрая железка. Ну же, милый Элад, улыбнись. Большей награды мне не нужно.
– Ну что, рекрут, ты можешь не вертеться? У меня уже голова от тебя кружится. Твой старик, что, был придворным шутом?
– Нет, мастер-сержант, мой папаша был дровосек.
– Правда? Вот не сказал бы. Для сынка дровосека ты что-то хиловат. Не смог унаследовать профессию, стало быть?
– Он умер, когда мне было семь, мастер-сержант. Я и не собирался идти по его стопам. Выучился всему у мамкиной родни; мои тетя с дядей водили животных.
– Придумал тебе имя, парень.
– Мастер-сержант, сэр?
– Вот, даже записал для проформы. Теперь зовут тебя Непоседа и ты морпех. Все, вон с глаз моих… и пусть кто-нибудь прибьет тех собак. Уши вянут от этого лая.
– Непоседа, как живот?
– Пылает, будто угли, сержант.
К ним направлялись с полдюжины солдат. Тот, что шел впереди, поглядел на Бальзама и сказал:
– Сержант, Кулак Блистиг назначил нас на этот обоз. Мы возьмем все в свои руки…
– В руки, капрал, берут под одеялом, – ответил Бальзам.
Горлорез издал жутковатый сиплый смешок; солдаты вздрогнули.
– От помощи мы, конечно, не откажемся, – продолжил Бальзам, – но теперь за охрану обозов отвечают морпехи.
Капрал слишком уж активно бегал глазами, отчего Непоседа решил к нему присмотреться. А не широковато ли у тебя лицо для человека, паек которого – три плошки в сутки?
– Кулак Блистиг… – завел капрал снова, видно, из упрямства или тупости.
– Не командует морпехами. Но давай поступим так: ты сейчас пойдешь к нему и передашь наш с тобой разговор. Если он чем-то недоволен, пусть обращается напрямую ко мне. Я сержант Бальзам, девятый взвод. Если вдруг ему нужен кто-то званием повыше, то пусть ищет капитана Скрипача – он где-то в авангарде. – Бальзам склонил голову и потер подбородок. – Эй, Смрад, я правильно помню, что Кулак старше капитана? Так ведь нас учили?
– Да, сержант. Хотя порой все зависит от самого Кулака.
– И от капитана тоже, – добавил Горлорез, больно ткнув Непоседу локтем в бок.
– В общем, идите и берите в руки все, что хотите, – заключил Бальзам. – Только одеяло не запачкайте.
Горлорез снова взвизгнул, и солдаты поспешили ретироваться.
– Рожи у них какие-то красные, – пробормотал Непоседа, проводив их взглядом. – Сначала я думал: дурни просто исполняют приказ, а ты с ними так грубо, сержант… Но теперь чую, что-то тут неладно.
– Это ж висельное дело, – сказал Смрад. – Если я подумал о том же, о чем и ты.
– Должно было случиться, рано или поздно, – скривился Непоседа. – Все мы это знаем. Иначе зачем Скрипу приставлять нас к этому обозу?
– Вроде бы нас собирались усилить тяжами, а потом почему-то передумали, – вставил Горлорез.
– Нервничаешь? – спросил у него Непоседа. – Нас всего четверо, и самое страшное наше оружие – твой смех.
– Но ведь сработало?
– Они пошли жаловаться своему капитану, или кто там ими заправляет, – сказал Бальзам. – Уверен, скоро вернутся с подкреплением.
Непоседа ткнул Горлореза локтем – в отместку за прошлый тычок.
– Ну что, боишься?
– Только твоего дыхания. Отвернись!
– По другую сторону повозок есть еще один взвод, – кивнул головой Бальзам. – Кто-нибудь видит чей?
Каждый присмотрелся, но три ряда повозок загораживали почти весь обзор.
– Да хоть бы сам Скворец, – буркнул Горлорез. – Все равно, начнись что, они к нам не проберутся…
– Ну чего ты заладил? – повысил голос Бальзам.
Горлорез оскалился.
– Сержант – и вы все, – у нас тут не просто бунт, а жажда! У меня на родине часто случались засухи, и хуже всего, когда ты при этом в осажденном городе – в Ли-Хэне, – а тебя окружают сэтийцы. Чуть ли не каждое лето бывало. Так что, поверьте, я знаю, как это страшно. Когда начнется лихорадка, тебя ничто уже не спасет.
– Да уж, поднял настроение. А теперь, пожалуйста, замолчи. И да, это приказ.
– Кажется, там взвод Бадана Грука, – проговорил Смрад.
Бальзам хмыкнул.
Непоседа нахмурился.
– А что не так-то, сержант? Они ведь такие же далхонцы, как и ты?
– Не пори чушь. Они из южных джунглей.
– А ты сам-то не оттуда?
– Даже если и так, и, заметь, я не сказал, так это или не так, это не имеет значения, понял?
– Не-а. Сам Тайшренн не разобрал бы, что ты сейчас наговорил.
– Короче, все сложно… Бадан Грук. Если верить Горлице, нам трудно будет поддерживать друг друга. Впрочем, ладно, могло быть и хуже. И зачем только Скрип забрал всех тяжей, как думаете?
– После Добряка к капитану приходила Фарадан Сорт, – сказал Смрад. – Не то чтобы я подслушивал – просто рядом стоял, так вышло. В общем, я разобрал не все, но, похоже, могут возникнуть проблемы с тянульщиками в продовольственном обозе. Думаю, туда тяжи и направились.
– Зачем? Протянуть им руку помощи, что ли?
Горлорез сипло взвизгнул.
Вертун почесал отсутствующий кончик носа.
– Кто вообще дал им право называть себя «Мостожогами»? – проворчал он.
Фитиль оглянулся на роту, маршировавшую слева от них, задержался взглядом на трех волах, по-воловьи топавших по песку. Так вот и выглядят те, кто делает самую черную работу. Тягловые животные. С другой стороны, у них же мозгов нет? Трудишься – тебя кормят. Больше трудишься – больше кормят. И так без конца. Но мы-то ведь не такие.
– Не все ли равно, как они себя называют, Вертун? Мы шагаем рядом, месим одну грязь. А когда от нас останутся только выбеленные кости, разницы никто даже не заметит.
– Я бы заметил. Легко. Когда смотришь на черепа, сразу ясно, где мужской, а где женский, где старый, а где молодой. Я даже могу отличить городского олуха от деревенского. В Фаларе я ходил в учениках у одного мастера, так вот у него все полки были сплошь уставлены черепами. Он их изучал и мог отличить напанца от жителя Квон-Тали, Генабакиса, Картула…
Капрал Пряжка, шедшая впереди, громко хмыкнула и бросила через плечо:
– И ты что, ему верил? Дай угадаю, он так на жизнь зарабатывал? Ну да, это ведь вы, фаларцы, хороните родственников в стенах дома? А когда возникает спор о наследстве, тут-то и пригождаются чтецы по черепам. Очень удобно.
– Мой наставник весьма профессионально улаживал такие споры.
– Кто бы сомневался. Слушай, отличить мужика от бабы или старика от ребенка – в это я еще поверю. Но остальное? Чушь это все, Вертун.
– А почему мы вдруг о черепах заговорили? – спросил Фитиль. Когда никто не ответил, он продолжил: – В общем, я думаю, это к лучшему, что рядом с нами «Мостожоги», а не простые солдаты. Если кто-то попытается отбить у нас эту повозку, мы сможем позвать их на помощь.
– С чего бы им нам помогать? – поинтересовался Коловорот.
– Не знаю. Просто, вот, Мертвый Вал – настоящий «Мостожог»…
– Ну да, ну да… – протянула Пряжка. – Тоже слышала. Ерунда полнейшая, скажу я тебе. Ни единого «Мостожога» не осталось. Всякий это знает.
– А Скрипач…
– Ну, кроме Скрипача…
– Скрипач с Валом из одного взвода, из того же, что и Быстрый Бен. Так что Вал – настоящий.
– Хорошо, убедил, но на его помощь надежды нет. Случись что, полагаться придется только на себя. Взвод Битума по другую сторону обоза, они к нам не проберутся. Так что держите ухо востро, особенно когда прозвонит полуночный колокол.
– Расслабьтесь, – донесся спереди голос сержанта Урба. – Все будет мирно.
– Откуда такая уверенность, сержант?
– Рядом с нами маршируют «Мостожоги», капрал. А у них есть котятки.
Фитиль и остальные понимающе закивали. Урб знал, о чем говорит. Хорошо, что он здесь. Даже без Лизунца, которого отослали в тыл, все будет хорошо. Фитиль с завистью посмотрел на огромный летерийский фургон.
– Вот бы и у меня тоже были такие котятки.
Если уж на то пошло, отпускать легче всего. Прочие варианты толпились, гнусно спорили друг с другом, смотрели на тебя с воинственным видом – настойчиво, выжидающе. Он так хотел от них отвернуться. Он так хотел отпустить.
Вместо этого капитан просто шел, а разведчики шептались вокруг него, словно стайка детских воспоминаний. Он хотел остаться один, но и отослать их тоже не мог. Деваться некуда. Им всем деваться некуда.
Поэтому ничего отпускать было нельзя. Он знал, что нужно адъюнкту и что нужно адъюнкту от него. От моих морпехов и тяжей. Страшная несправедливость, и мы оба это знаем. Что еще бо́льшая несправедливость. Все те прочие варианты выстроились перед ним, требовательно заглядывая в глаза, как недисциплинированные солдаты.
«Выбери нас, Скрипач. Мы – это все, что ты хотел сказать тысячу раз в своей жизни, но отводил взгляд и молчал. Или пропускал мимо ушей вместо того, чтобы пресечь все это дерьмо и грубое унижение… Или отпускал. И чувствовал, как крохотная частичка тебя умирает, словно укус, который тут же проходит.
Но мало-помалу оно накапливается. Не так ли, солдат? И поэтому она говорит: в этот раз не отпускай, не отступай. Она говорит… Впрочем, ты и сам знаешь, что́ она говорит».
Скрипач не удивился, что строгий голос у него в голове – голос суровых вариантов – принадлежал Скворцу. Он почти видел глаза сержанта: серо-голубые, цвета ухоженного клинка и зимнего неба, понимающие и как бы говорящие:
«Ты поступишь правильно, солдат, потому что иначе ты просто не умеешь. Ты больше ни на что не способен, кроме как поступать правильно».
А если от этого становится больно?
«Что ж, беда. И прекрати нытье, Скрип. Ты вообще-то не столь одинок, как тебе кажется».
Скрипач хмыкнул. Интересно, откуда взялась эта мысль? Не важно. Начинало казаться, будто вся эта затея бессмысленна. Будто пустыня убьет их всех. Но до тех пор нужно просто держаться и идти.
Идти.
Маленькая обветренная ручонка потянула его за куртку. Скрипач опустил глаза.
Мальчишка указывал пальцем вперед.
Идут.
Скрипач прищурился. В отдалении один за другим из темноты возникали чьи-то силуэты.
Идут.
– Нижние боги, – прошептал он.
Идут.