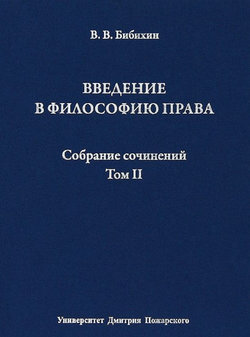Читать книгу Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права - В. В. Бибихин - Страница 10
I. Общие положения
2. Ближайшие реалии[68]
ОглавлениеМы перечислили таким образом главные черты и главные проблемы права. Эти черты и эти проблемы так или иначе выявляются при любом обсуждении права. Для того, чтобы не входить теперь в перебор мнений по этому вопросу, – что мнений может быть много и что они самые разные, читатель мог убедиться на своем примере, замечая, сколько у него возражений на говоримое здесь и сколько идей, которые не были упомянуты, – попробуем теперь сразу войти в реалии права. Теснящие нас реалии не зависят от человеческого мнения и решения. Они уходят в такую глубину, что у них неудобно прослеживать начало во времени и рискованно предсказывать их конец. Прикоснуться к настоящему можно только через ближайшее. Изучение обобщенных схем, например правовых идей и идеалов, здесь ничего не даст. Если бы мы жили в Германии, у нас был бы другой подход к теме права. Мы можем достоверно знать только то, что имеем в опыте. В нашей отечественной истории отчетливого опыта права и правового государства мы не имеем. Не будем спешить с оценкой, хорошо это или плохо. Не будем слушать и тех, кто считает разговоры о праве преждевременными, пока не построено правовое государство.
Как подтверждение почти всего, перечисленного выше, – невозможности эксплицировать обычаи, нравы, узус, этику, этикет в писаное правило; определяющей важности неписаного права и так далее, – рассмотрим некоторые наблюдения маркиза Астольфа де Кюстина в его записках путешественника «Россия в 1839 году». Это конечно не лучшее и не самое глубокое исследование права в нашей стране. Оно пригодно для нас однако тем, что в нем с птичьего полета непосредственно замечены и почти не доведены до толкования, т. е. оставлены в их простой данности, важные особенности нашего Востока Европы.
Эти особенности бросаются в глаза конечно каждому. Стало чуть ли не жанром публицистики на тему обустройства нашей страны описание парадоксальных свойств России в ее отличии от Запада, большей частью идеализированного и воображаемого. Возьмем буквально первую попавшуюся, а именно подобранную из груды макулатуры, выброшенной из библиотеки Института философии, книгу «Как сделать Россию нормальной страной» социолога Матвея Малого, вернувшегося в Россию после американской эмиграции. Мы находим здесь эффектные характеристики, с которыми скорее всего спокойно согласимся. Автор, хотя и настаивает на них, не считает их окончательными и просит совершенствовать их на сайте www.change-russia.ru.
Когда англичанин пытается найти в словаре русского языка эквивалент английскому слову law, он находит «закон». Однако в России не проще найти то, что англичанин понимает под словом law, чем в Таиланде – белого медведя. Законы, которые существуют в России, должны быть изучены сами по себе, как некая особая данность, а не как странная интерпретация западной версии законов. Россию надо изучать как отдельный самодостаточный феномен, а не в сравнении с какой-то другой цивилизацией[69].
От сравнений, однако, удержаться очень трудно, и против собственного решения автор проецирует Россию на фон правовых государств (идеализированных) с тысячелетней традицией собственности.
Главная отличительная черта российской цивилизации – отсутствие концепции частной собственности [отсутствие в общественном сознании места для частной собственности]. Собственность как бы висит в воздухе, напоминая туго натянутый тент, к которому со всех сторон тянутся руки. Права на собственность у всех под вопросом, поэтому владение частной собственностью в России может быть только временным[70].
Невероятная быстрота образования больших имуществ во время последней финансовой революции сделала каждое из них не совсем правовым и имеет своим зеркальным отражением непонятно легкое согласие с отнятием этих имуществ.
Для того, чтобы обладать собственностью без риска для жизни, надо вступить в союз с сильными мира сего, что означает частичную передачу собственности. С любовью относиться к этой собственности нет смысла: она только условно твоя.
Если в Германии в поле, используемом под посевы, находился булыжник, то сейчас его там нет. Лет восемьсот назад немцы его подобрали и использовали на постройку каменного дома. В России булыжник до сих пор лежит посередине поля, будто русские пришли на это поле недавно или не собираются его обрабатывать. Жители России не верят в то, что они владеют собственностью, и потому не могут по-хозяйски обладать ею. Это качество сбалансировано другим уникальным свойством: русская культура избегает материального.
Немец знает, как всё должно быть, потому что он может до всего дотронуться или найти в своем своде законов. Русские предпочитают вместо законов каждый раз оценивать ситуацию заново.
Ключ к пониманию российских законов в допущении, что подсознательно каждый человек в России считает себя богом и как к богу относится к нему и закон.
В России всегда законы были плохие, но их никто не выполнял. От этого веет духом свободы. Хороший закон выполнять всё равно бы не стали: не для богов законы писаны. Законы плохи, наказания жестокие, а с другой стороны, законов как бы и нет[71].
Привыкший на Западе стоять на пешеходном переходе перед красным светом, автор испытывает крайнюю неловкость за свою законопослушность в России.
Выполняя закон, ты испытываешь чувство стыда. Окружающие начинают думать, что ты чего-то испугался, так как никому не приходит в голову, что тут может быть еще какой-то мотив, кроме страха наказания. Так как гражданственность и уважение к другим в России не могут служить мотивом следования закону, я для себя придумал иной мотив – рассеянность. Если на перекрестке окружающие идут на красный свет, я ожидаю зеленого с самым рассеянным или мечтательным выражением лица, призванным сказать: «Я и сам люблю перебегать на красный, но вот что-то вспомнил, задумался»[72].
Россия состоит из общежития существ, которые божественно независимы и самоуправны, но, с другой стороны, как нематериальные боги ни сами для себя не требуют, ни для других не заботятся о человеческой нужде в защите законом и правами.
Российское общество продолжает объявлять себя состоящим из богов, а боги либо не нуждаются ни в какой защите, либо становятся беззащитными до такой степени, что их можно уничтожать миллионами. Россиянин возвращается из Франции домой убежденный, что люди в России намного теплее, добрее и участливее. И это действительно так. Но то же самое доброе участливое российское общество недавно истребило десятки миллионов своих сограждан. На Западе каждый человек считается обладающим своим частным пространством, куда не принято залезать никому. В России у человека нет никакого частного пространства, потому что он не считается личностью, обладающей собственностью на то место, где он находится, поэтому с ним легко разделить последнюю рубашку и так же легко уничтожить его.
В России жестокость направлена не на человека. Человека как такового российская жизнь еще не открыла, еще не осознала для себя. Русские – добрый народ, и то, что кажется жестокостью, есть просто стиль отношений между богами. Бог и выдержать может всё, и не нуждается ни в чем[73].
Угадано важное.
Обратимся к маркизу де Кюстину. Право, с которым он на нашем востоке Европы встретился, он с хорошим чутьем опознал сразу как в основном неписаное; уставным законодательством он соответственно мало интересовался. У Кюстина видно, что описание нравов невольно не остается на уровне объективности, становится нравственной оценкой. И это конечно ведет к тому, что описанием объект уродуется. Но это естественное искажение с избытком компенсируется здравой противоречивостью кюстиновских оценок. Увидев одну сторону, он потом замечает и противоположную. Его оценки России на хорошо-плохо тоже сплошь амбивалентные. (Чистый пример полной противоположности, Библия, где например ни Авраам, ни Сарра, ни фараон не оцениваются на хорошо-плохо в истории выдачи жены за сестру, тоже конечно оставляет в полной неопределенности современного человека, настроенного на отчетливость этических оценок и видящего в этой истории как минимум обман, а за ним и что-нибудь хуже.) Прав один читатель его книги, его современник:
И черт его знает, какое его истинное заключение, то мы первый народ в мире, то мы самый гнуснейший![74]
Кюстин ведет все черты русских, например тягостную лень, от самодержавия. Деспотическое самодержавие для него, монархиста, но уважающего свободу и право, конечно отвратительно. Притом он с интимным сочувствием относится к царю, с которым ему довелось говорить. Сочувствие переходит в настроение. Настроение сливается с погодой и климатом. Они в России разные, но достоинство Кюстина в том, что он не выходит к обобщениям и усреднениям, а отдается первому попавшемуся – петербургскому – настроению. Отдаться настроению, какому угодно, времени и месту, всегда вернее чем искать в схемах более надежной опоры.
[…] Вечера здесь промозглые, ночи светлые, но туманные, дни пасмурные; в таких условиях предаваться раздумьям – значит обречь себя на невыносимую тоску. В России разговор равен заговору, мысль равна бунту: увы! Мысль здесь не только преступление, но и несчастье (I, 145).
В Россию Кюстина привело тоже чувство, страсть: интимная привязанность к другу поляку, разделенное с ним негодование от недавнего подавления и наказания Польши и дерзкая мечта в России выпросить у царя возвращение имения этому другу, Игнацию Гуровскому (1812 или 1813–1884); не удалось; поместье Гуровского было в октябре 1841 года окончательно конфисковано, и горечь от этого тоже вошла в книгу Кюстина.
В свете живого настроения блекнет схема осуждения самодержавия, произвола и остается чувство – непосредственное, тоже до страсти (смесь ужаса и восторга) впечатление от этой страны, России.
Что за страшная сила […] судьба, мощь, воля целого народа – всё пребывает в руках одного человека. Российский император – олицетворение общественного могущества; среди его подданных […] царит то равенство, о каком мечтают нынешние галло-американские демократы, фурьеристы […] Эта колоссальная империя, представшая моему взору на востоке Европы, той самой Европы, где повсюду общество страждет от отсутствия общепризнанной власти, кажется мне посланницей далекого прошлого. Мне кажется, будто на моих глазах воскресает ветхозаветное племя, и я застываю у ног допотопного гиганта, объятый страхом и любопытством (I, 147).
Тоска, ужас, ненависть, убийство, жалость, вот параметры русской реальности. Область права, закона, правового государства – где она? Правят страсти. Здесь сколько угодно места для схем, обобщений, рассуждений о гражданине, его правах, но всё это у Кюстина переплетено с тем, как он на себе переживает действительность этой страны.
Русское правительство – абсолютная монархия, ограниченная убийством, меж тем когда монарх трепещет, он уже не скучает; им владеют попеременно ужас и отвращение. Деспоту в его гордыне потребны рабы, человек же ищет себе подобных; однако подобных царю не существует; этикет и зависть ревностно охраняют его одинокое сердце. Он достоин жалости едва ли не в большей степени, нежели его народ (I, 148).
А народ? Он врос в землю, слился с ней. За этой его поглощенностью землей все другие обстоятельства его жизни уже менее важны. Вопрос о земле оказывается главным. Крепостное право в смысле принадлежности крестьянина помещику на фоне принадлежности крестьянина земле отступает на второй план. Помещик вклинивается в интимное отношение крестьянина к земле как чужеродное тело.
Во многих областях империи крестьяне считают, что принадлежат земле, и такое положение дел кажется им совершенно естественным, понять же, каким образом люди могут принадлежать другим людям, им очень трудно. Во многих других областях крестьяне думают, что земля принадлежит им (I, 151).
Люди принадлежат земле или земля принадлежит им? В каком смысле принадлежит им, <в смысле> частной собственности? Именно нет. В каком-то другом. В таком, что не отчетливо ясно, земля ли принадлежит людям или люди земле. Отношение к земле очень важно в России, и в нем обязательно надо разобраться. Если конечно теория для нас это не еще одна конструкция, гипотеза, а то, что теория и означает – вглядывание в то, как вещи показывают себя.
Вообще говоря, то, что земля принадлежит людям, не мешает тому, чтобы люди принадлежали земле. Взаимопринадлежность народа и земли здесь глубже, чем юридическая принадлежность. Мы все интуитивно, по крайней мере, ощущаем, что земля одновременно конечно наша, хотя вместе с тем ничья конкретно. Мы начинаем себя чувствовать совершенно иначе, непривычно и неуютно в Латвии, когда, собирая чернику, останавливаемся перед протянутой веревкой, или в Италии, где, как говорил один разочарованный переселившийся туда русский, лесов нет, хотя их там сколько угодно, но нельзя по ним бродить как в России: вы идете по общественным дорогам и маршрутам, остальное или частное, или там, например в горы, принято ходить только организованно, сообщив государственным инстанциям; так, идя собирать грибы, мы в России должны были <бы> заявить в милицию маршрут. Писатель и историк Юрий Мальцев обосновывал свой отъезд в Италию в 1975 году недостатком свободы в России, но тосковал в Италии по свободе просто бродить по стране, а не только по огороженным и кому-то юридически принадлежащим участкам.
Частное владение землей, хуторское, отрубное хозяйство, которое вводил Петр Столыпин и которое неуверенно вводится сейчас, проходит на поверхности, не задевая интимного отношения народа к земле. Вместо отчетливости распределения – эта земля твоя собственность, здесь твои права, та моя, – коллективизация восстановила туманную принадлежность земли: она вся принадлежит трудовому крестьянству, но крестьянину принадлежит только двадцать соток. Сбылось пророчество Льва Толстого:
Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей. – (Всё это видел во сне 13 Авгу.)[75]
Толстому настолько ясно простое, только юридически сложное, положение вещей в России, что он не смущается противоречием того, что записывает: революция будет против собственности, для того чтобы вся земля осталась наша. То, что увидел Толстой во сне 13.8.1865, относительно тихо, почти само собой произошло в 1929 году, быстро отменив всю частную собственность на землю и уж совсем легко – кооперативную. Что об этом обычном праве России никто сейчас по-настоящему не думает, показывает только, как привязанность к земле – она вся наша, поэтому никому ее в собственность не отдадим и сами тоже не возьмем – умеет постоять за себя, спрятаться и сохраниться. Легкомысленные умы блефуют, когда говорят, что семидесятилетнее обобществление собственности в СССР было уникальным в истории. Только не в истории России, где срывалась всякая попытка на протяжении веков закрепить земельную собственность за человеком. Крепостное право было бы невозможно, если бы помещик был владельцем земли в западном смысле, а не получил землю условно за государеву службу; помещичья земля была пожалована ему государем, могла быть и отнята, и государевой, т. е. ничьей, была вся земля. Крепостной был в важном смысле владельцем полнее и свободнее помещика, потому что сидел на земле и был одно с ней, а помещика присылали на его землю.
Теперешний бедный неимущий в отличие от нового владельца покупает этой своей бедностью чувство хозяина всей земли. Увиденное Львом Толстым во сне продолжается до сих пор; русский говорит: «с меня, человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам».
Земельная реформа последнего десятилетия, казалось бы, ликвидировала государственную монополию на землю. Но юридическое переоформление земли на крестьян ничего в сущности не изменило. Насколько сильна потребность, чтобы земля была наша, настолько же это «наша» не сводится к формальному праву, юридическому оформлению. В сообщении из одного сельского района Воронежской области читаем:
[…] Крестьяне […] стали собственниками земельных долей. Но поиски нового удачи не принесли: хозяйство из прибыльного стало убыточным, рабочим перестала выплачиваться заработная плата, долги кредиторам росли. Руководство ощущало свою беспомощность, а люди чувствовали себя неуверенно и незащищенно, с ними стало тяжело работать и просто общаться […] Если не принимать экстренных мер, через пять-шесть лет фермер останется один на один с грудой развалившейся техники и заросшим сорняками полем[76].
Юридическое (пере)оформление собственности на землю проходит как в нереальной области и ничего не меняет в ощущении всей ее как своей.
Человеку, постоянно живущему и работающему на земле, самой важной и насущной представляется не обсуждаемая так горячо в городе проблема купли-продажи земли. Гораздо важнее грамотное и добросовестное инвестирование, грамотное землепользование и грамотная система налогообложения. Если эти условия соблюдать, русский крестьянин вернет себе славу настоящего хозяина своей земли.[77]
Ту же трудную для понимания ситуацию, когда наша принадлежность к земле сливается с принадлежностью нам земли и не сводится к юридической собственности на землю, видел в России маркиз де Кюстин.
Величайшее несчастье, которое может приключиться с этими людьми-растениями, – продажа их родной земли; крестьян продают обычно вместе с той нивой, с которой они неразрывно связаны; единственное действительное преимущество, какое они до сих пор извлекали из современного смягчения нравов, заключается в том, что теперь продавать крестьян без земли запрещено (I, 152).
Разница между нашим, чувствующим нас, Толстым и Кюстином, который приехал к нам с навыками римского права и священной юридической собственности, в том, что по Толстому наша земля реальность, для Кюстина нашесть земли без полного, обеспеченного правами личности юридического оформления есть лишь иллюзия. Россия не правовое государство, поэтому о собственности говорить не приходится, земля принадлежит народу только в воображении. Для Кюстина недостаточно знать и видеть, что прочного собственника земли нет, чтобы верить самоощущению крестьянина. Для Толстого, наоборот, наша земля настолько важная реальность, что в ситуации фактической непринадлежности земли никому – далекому царю всё равно что никому – нищий крестьянин свободен как царь или, Толстой говорит в одном месте, как Робинзон, рискующий и одинокий вольный хозяин на своем необитаемом острове.
Для Кюстина русский крестьянин только воображает себя хозяином земли, ведь совершенно ясно видно, как хлебосольный столичный аристократ ободрал, обобрал, подсчитывает Кюстин, столько-то крестьян, чтобы иметь серебряный поднос, кофе со сливками и булочку утром, карету, поездку на воды в Германию.
Он – вещь, принадлежащая барину […] хозяин видит в его жизни не что иное, как мельчайшую долю той суммы, что потребна для ежегодного удовлетворения его прихотей (I, 154).
С этой особенностью страны, отсутствием отчетливой, жесткой собственности на землю и соответственно на что бы то ни было (вспомним, как легко отдали свою собственность собственники в революцию, как легко расстаются люди со сбережениями в инфляцию), связано отсутствие среднего класса в России. Кюстин:
В стране, где нет правосудия, нет и адвокатов; откуда же взяться там среднему классу, который составляет силу любого государства и без которого народ – не более чем стадо, водимое дрессированными сторожевыми псами? (I, 250)
Собственно, богатые и бедные – от природы. Когда общество оставлено природе, как деревья в лесу из общей ровной массы выдаются высокие и неудачные. Но ровный нищий лес рядом с богатой рощей без промежутка среднего означает, что почва была по-видимому сдвинута. Тут могло быть только вмешательство насилия, а не органический процесс. Не органика. Хорошее наблюдение:
Здесь […] богатые – не соотечественники бедным (I, 289).
Как странное русское владение землей для Кюстина с его европейским опытом ненормально, так же и отсутствие среднего класса в России. Для Толстого резкая разница между бедностью большинства и богатством немногих, конечно, скандальна, но отсутствие среднего класса не проблема и не беда; он вполне может представить, лишь бы не было вредного влияния со стороны богатых, бедную крестьянскую Россию.
Для Кюстина отсутствие среднего класса признак какого-то силового вмешательства в естественный природный процесс расслоения. Для исправления этого очевидно бывшего насилия – ранней оккупации – он считает нужным противонаправленное усилие.
Всякому обществу, где не существует среднего класса, следовало бы запретить роскошь, ибо единственное, что оправдывает и извиняет благополучие высшего сословия, – это выгода, которую в странах, устроенных разумным образом, извлекают из тщеславия богачей труженики третьего сословия (I, 154).
Интересно, что приговор «русские сгнили, не успев дозреть» относится у Кюстина только к богатым, которые из-за неестественности (смещенности почвы) не могут быть собственно настоящими богатыми, они ложь, в чем только их – даже не в насилии над большинством – и винит Кюстин. Стране без среднего класса, говорит он, негде взять достаточное количество хорошо обученных в школах мастеров (для строительства, эстетической отделки, для воспитания), она берет профессионалов на стороне, на Западе, срыв сначала почву для своего среднего класса, т. е. искусственно подорвав его.
Это неестественное разделение мы встретим на нашем востоке Европы рано. Например, в правовом документе X–XI веков, Русской Правде, заметно различение виры, штрафа за убийство, 80 гривен за тиуна княжа в городе, т. е. среди его граждан, и только 12 гривен за того же тиуна княжа, но сельского; столько же за полевого бригадира, ратайного, с различением между городом и селом как между оккупантами и населением. Территория отвечала за безопасность представителей власти, которые на ней появлялись, и автоматически наказывалась за ущерб ему. Та же круговая порука сельского населения продолжалась во времена Кюстина.
Обычай, обычное право, а именно общинное, общественное владение землей, без закрепления ее за юридическим владельцем, сосуществует – на протяжении веков – со спущенным сверху, из правящей военно-государственной силы, законом. Неюридический, реальный владелец земли, если можно так сказать, – интимный, сросшийся с землей натурой, нравом и родным языком, – откупается от пришедшего со стороны правителя тем, что идет к нему в подчинение. Он отдает власти при этом себя, свою силу, свое время, но не свою землю и не свою почвенную связь с ней. Юридически земля может принадлежать тому, кому определит утвердившаяся власть, однако связь с ней формального владельца непрочная, неорганическая. Она ограничивается получаемым с земли доходом, первоначально данью. Коренной житель срастается с почвой и подобно почве позволяет наступить на себя, топтать себя. Такое отношение человека к земле и оккупанту подробно описано западными социологами на старом традиционном отношении черных к белым в Америке. Подчинение черных здесь было разыграно, часто комически подчеркнуто. Игра в подчинение принадлежит к стратегии покоренного класса, который именно в силу своего низшего положения оказывается ближе к почве, к земле. Подчиненный хочет быть или казаться как можно ниже. Положение под ногами правящих через розыгрыш перевертывается в отношение превосходства, насмешки, покровительства, показной добродушной или скрытой манипуляции хозяином.
Можно называть разными словами – земля, натура, нрав, почва, низ, беря их почти наугад, – вещь осязаемую, более надежную чем ее определения. Я имею в виду связь человека с землей, которая укрепляется, например, поколениями выживания на земле без посторонней помощи. Эта укорененность ощущается и не бросается в глаза. Сила, блеск власти бросаются в глаза. Кюстин видит реальную беспомощность красиво одетых в орденах и чиновных отличиях упитанных начальственных тел и нестойкость правящей пирамиды, которая держится не своим трудом, а задавленным основанием пирамиды. При виде нестойкой постройки становится ясно:
Или цивилизованный мир не позже, чем через пять десятков лет, вновь покорится варварам, или в России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад (I, 157)[78].
Наполеон тоже предсказывал, что Европа станет казацкой, если не станет республиканской. Революцию видели вблизи в те годы Мицкевич, Белинский и многие другие. Интересно ощущение угрозы от русского порядка. Наполеон оправдывал свой поход на восток тем, что Европа неблагополучна и не в безопасности, пока на Востоке высится эта неопределенно громадная величина, Россия. Как государственное образование она многим видится шаткой, нестабильной, колоссом на глиняных ногах, гнилой стеной. Угроза стало быть не в государстве – Европа в предсказании Кюстина покорится варварам, не царю, – а в восточной стихии. Чередующиеся самодержцы в России скорее сдерживают стихию и охраняют от нее Европу. Имя самой стихии остается неизвестно; неизвестность, скрытность, непросвеченность – одна из ее черт.
В России всё покрыто тайной, на всём лежит печать главной здешней добродетели – сдержанности; всякий почитает большой удачей лишний раз выказать свою скромность (I, 158).
Это и частые сходные замечания Кюстина говорят о скрытности рабов в деспотии. Как если бы свободный, Кюстин, мог высказать тайну. Но и он ее не знает. Деспотия уходит в склад, уклад народа. Восток, даже если это восток Европы, загадочен.
О России легко высказать целый набор очевидной критики. Стандартный диссидентский набор кюстиновского времени включает самовластие, бесправие в смысле отсутствия сколько-нибудь отчетливого права, беззаконие, угнетение большинства, рабство; несоразмерно большая часть населения в заключении, политические узники на цепях в страшных подвалах, замерзающие до смерти в мороз извозчики, которые вынуждены дожидаться господ на улице хорошо если возле костров, сокрытие числа солдат, гибнущих на маневрах, порка крестьян, продажность судов, чинов. Эти сведения Кюстину охотно предоставляют его информанты, вовсе не только поляки и другие иностранцы в России, но и сами русские, легко проговаривающие всю эту критику о своей стране. Точно так же как на любого иностранца-путешественника и в XI веке, и в XVI, и в XX, и в XXI честный житель этой страны выгружал примерно одинаковый набор справедливой горечи о своей ситуации. Чутье между тем подсказывало Кюстину, что в однозначном черном отчете о России есть такая же, разве что противоположная, неправда, как и в потоке официальной пропаганды, которая выдавала картину превосходного благополучия, щедро расходуя средства на издания, на ухаживание за пишущим посетителем-иностранцем.
К устройству своего государства и права в странах Запада, Америке, Германии, Франции относятся более деловито и почти так же прагматично, как к устройству своего домашнего хозяйства. Устройство может быть похуже или получше, но это более или менее технический вопрос. В нашей части мира, не только у нас, но и например в странах Ислама, строй чаще чем об административных недостатках заставляет думать о правде и неправде, вере и Боге, о последних вещах (о смерти, о цели жизни). Для западного человека экзистенциальные проблемы в полной мере существуют, но скорее отдельно от проблем администрации, выборов, налогов. Наоборот, среди наших реалий в метафизику – в проблемы добра и зла, доброты, искренности, лжи, сокрытия, человеческого своеволия, самоуправства и в решение этих проблем – внедряешься быстро почти при первой же встрече с милиционером, с органами местного самоуправления.
Метафизический воздух среды заражает Кюстина. Он живо задет сокрытием в России главных вещей – неискренностью, уклончивостью в разговоре о силе, власти, источниках богатства. Непосредственности чувства и свободы слова Кюстин не видит ни у кого. Следовательно, он ожидает этого здесь от всех. Во Франции у себя ожидать честности, прямоты, достоинства он мог, но требовать исповедальной честности ему не пришло бы в голову, и понятно почему. В устроенном правовом государстве, где вопросы упорядочения общества во многом решены, почти каждый встречный погружен в свое конкретное дело, профессию, корпоративные интересы, общественные связи; к французу так просто с разговором о последних вещах, о добре и зле, не подступишь. У русских, наоборот, как замечает сам Кюстин, из-за общей неустроенности ни у кого нет своего твердо определенного дела, поэтому для всех на передний план выступает и преимущественно обсуждается по существу только одно дело центральной власти.
В истории России никто, кроме императора, испокон веков не занимался своим делом; дворянство, духовенство, все сословия общества изменяют своим обязанностям (I, 157).
Русским таким образом в отличие от занятых своим делом французов естественно говорить о последних вещах, о жизни и правде; им кроме этого делать, строго говоря, нечего. Для Кюстина в России отчаянно не хватает божественных даров душевного чувства и вольного слова у всех. Так ему не хватает античной гармонии в русских литературных и архитектурных подражаниях. Он ее ищет потому, что уже увидел в России древность в ее натуре; он не находит ее в искусстве. О. А. Седакова как-то сказала, что в России многого нет, но среди этого многого есть такое, чего нет именно только здесь. Здесь вспоминается Рильке: Россия граничит с Богом.
Кюстин ощущает себя единственным философом и писателем среди немого народа «в стране, где никто не пишет и не разговаривает» (I, 169) – где все пользуются речью только чтобы скрыть главное и не сказать ничего важного от чувства и от сердца. Но, отказывая этому народу в непосредственном чувстве, Кюстин не отказывает ему в чутье. В самом деле, надо иметь интуицию, чтобы уметь скрывать именно самое важное.
Что чуткость у этого народа есть, говорит музыка.
Церковное пение звучит у русских очень просто, но поистине божественно […] музыка заставляет забыть обо всём, даже о деспотизме (I, 172).
Деспотизм перестает ощущаться в самом низу, где близость к земле и опора на нее дает природную силу. Но деспотизм не чувствуется и вверху, с приближением к центру власти, к самому императору. Он оказывается не деспотом, а подчиненным и служащим, причем по более строгим правилам чем его подданные. Николай I, высокий и красивый немец, единоличный хозяин 60 миллионов человек, никому в мире не подвластный, никого не имеющий выше себя на небе и земле, честно подтягивается к высоте своей нечеловеческой миссии. Страдальчески скованная фигура в сознании невыполнимого, небесного долга – такая фигура будет конечно как магнит притягивать к себе мечтой о нем и, странно сказать, жалостью. Кюстин, вообще непосредственный в своих впечатлениях, дает на себе разыграться всему диапазону чувств русского подданного к императору, вплоть до интимности отношения к единому верховному правителю и до убеждения, что только я один, разговорившись с ним, послав ему сообщение, поделившись своим мнением, искренно по душам перед Богом мог бы поведать одинокому правителю тайну страны; я защищу его от коварства, я дам бескорыстный совет, ведь у всех окружающих его корысть, я один чист. Подданный при единоличном правлении ни с кем так не близок как с верховным властным лицом.
Я, догадывающийся о том, чего стоит ему исполнение монаршьего долга, не хочу оставлять этого несчастного земного бога на растерзание безжалостной зависти и лицемерной покорности его рабов. Увидеть своего ближнего даже в самодержце, полюбить его как брата – это религиозное призвание, милосердный поступок, священная миссия (I, 180).
Мистика единоличной власти такова, что один только верховный печальный правитель и никто другой открыт мне, честному бесхитростному; только ему я могу довериться и только мне он. Кюстин хочет простой силой непосредственности очаровать императора. В императоре чувствуется что-то внушаемое, женское. Отношения с ним подданного в бездонной глубине эротические. Верховный властитель в своем задумчивом отдалении ждет как послушная горячая самка поучения, внушения со стороны своего любимого подданного. В центре государственного вихря стоит одинокая жертвенная фигура, желающая одного: научи меня, направь, слейся со мной в единодушии. От успеха этого нежного отношения между правящим и подданными, от их любящего единства зависит успех государства.
У верховного правителя нет личных дел и проблем. Он, одинокий, всей своей жизнью существует только ради нас, его народа. У него не может быть нужд кроме высокой думы о судьбе страны, потому что все другие заботы я, подданный, возьму с радостью вместо него на себя. Если ему что надо, даже жизнь, я отдам ради него. Прежний царь, правитель мог иметь свои страсти, поступать в корыстных интересах, новый пришел очистить всё. Он воплощение права? Больше чем права: наконец-то лучшего, мудрого устройства. Правитель конечно человек, но особый и более близкий мне чем я себе. Он эталон, образец. Я перед ним себя чищу, выверяю, ему хочу показать только лучшего себя. Он единственный человек. Божественный? Может быть. Почему бы и нет. Он кроме того, возможно, просто лучше и умнее нас. Во всяком случае, своей единственностью он выделен из всех нас. То, что одновременно я знаю и думаю о нем как о таком же слабом и со страстями как я, не мешает мне делегировать ему мои ожидания. Он будет лучше меня хотя бы потому, что я на это надеюсь.
Это отношение ожидания бездонное. Бесконечно много и властитель может ожидать от народа самой богатой землей и недрами страны мира; хотя бы ввиду его могущества от него тоже могут ожидать бесконечно много. В другого можно вложить все надежды, когда вкладываешь в него право и мощь целого государства. Предполагается, что в конечном счете все взаимно ожидают блага. Я, переносящий в него мое лучшее, и он, готовый к тому, чего от него ждут, – оба мы оказываемся не сами, не свои, оба следим за тем, чтобы всё было хорошо не только для нас. Мы оба как в театре, разыгрываем роль, выступаем на сцене. Кюстин наблюдает императора на венчании дочери в соборе:
Император […] ни на мгновение не забывает об устремленных на него взглядах; он ждет их. […Ему], кажется, еще в новинку то, что происходит на его глазах, ибо он поминутно отрывается от молитвенника и, делая несколько шагов то вправо, то влево, исправляет ошибки против этикета, допущенные его детьми или священниками.
[…] Жених стоял не на месте, и император заставлял его то выходить вперед, то отступать назад; великая княжна, священники, вельможи – все повиновались верховному повелению, не гнушавшемуся мельчайшими деталями (I, 162, 168).
Той же выправке император подчинял и себя. Кюстин, чтобы не тонуть в трудном вопросе, перед каким зрителем в конечном счете играет это человечество с вождем во главе, успокаивается на предположении, что вождь знает, куда он ведет свой народ. Кюстин тут упрощает, что видно по его непоследовательности. Против упрощающего решения, что в этой империи только один по-настоящему живой человек, государь, говорит его же собственное наблюдение, что всё движение вокруг императора – это репетиция, которая никогда не кончится, потому что никогда не будет одобрена им вполне[79].
Внимание 60 миллионов человек сосредоточено на императоре, поглощено им. Кюстин заворожен этим имперским театром. Николай I привязывает его к себе чувством вызываемой императором необъяснимой жалости (I, 211). Француз не может растолковать ее причину.
Государство стоит таким образом не на правовых отношениях, например на договоре правительства с населением, а на интимных, чувственных, эротических отношениях народа к правителю. Фигура верховного правителя такова, должна быть такой, чтобы привлекать. Сальвадор Дали признавался, что Гитлер снился ему в нежных снах. В двенадцатилетие Третьего рейха женщины и девочки любовно и тщательно украшали большие портреты фюрера цветами и лентами. Кюстин отдается, словно ставя опыт над собой, встрече с императором. Император знает свое обаяние и заставляет тянуться к себе. Кюстин, как шар в лунку, попадается в ловушку интимного отношения к государю. Он находит в себе то свойство, которым в свою очередь чувствует себя способным, один из всех, привлечь государя; это всё то же, сцепляющее в одно десятки миллионов, желание сказать высокому человеку всё, честно и открыто, как другие не умеют, как знаю в глубине души только я.
[…] Быть может, наконец, заговорил в нем инстинкт человека, что долгое время не слышал правды и теперь надеется, что раз в жизни [!] встретился ему характер правдивый (I, 216).
Кюстин переживает на себе тайную механику этой империи. Он живо ощущает власть царского присутствия, часто видит себя единственным, самым нужным для императора; очарование и жалость приковали его. Сходные чувства, прибавим страх и ожидание даров, привязывают к царю каждого из 60 миллионов прочнее любых законов.
69
Матвей Малый. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 9.
70
Матвей Малый. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 9.
71
Матвей Малый. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 15.
72
Матвей Малый. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 20.
73
Матвей Малый. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 24 сл.
74
Письмо московского почт-директора А. Я. Булгакова к П. А. Вяземскому от 22.12.1843/3.1.1844 // НЛО 1995, № 12б с. 124. Цит. по: Астольф де Кюстин.
Россия в 1839 году…, Т. I., с. 396. <Далее ссылки на номер тома и страницы этого издания в тексте в круглых скобках>.
75
Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22-х тт. Т. 21. Дневники 1847–1894. М.: Художественная литература, 1985, с. 260.
76
<Периодический политический журнал> Гражданин (учредитель Общероссийское политическое общественное движение в поддержку Вооруженных Сил «Гражданин»), № 3, февраль 2002, с. 8.
77
<Периодический политический журнал> Гражданин (учредитель Общероссийское политическое общественное движение в поддержку Вооруженных Сил «Гражданин»), № 3, февраль 2002, с. 8.
78
К. Леонтьев боялся революции, которую ждал от тех же причин (республиканского европейского уравнения).
79
«Ни один из них не знает своей роли, и день премьеры не наступает никогда, потому что директор театра никогда не бывает доволен игрой своих подопечных […] И актеры, и директор растрачивают свою жизнь на бесконечные поправки и усовершенствования светской комедии под названием “Северная цивилизация”» (I, 180). На нашей памяти перед всем миром в нашей стране разыгрывалась тоже небывалая цивилизация, другого названия. Нас интересует, перед каким зрителем. В отдании моего интимного ожидания лицу, ожидающему от меня близости и верности, ничего в сути дела не меняет мое знание, например, его недостоинства. Мы не одиноко брошены в безответную пустоту. В игре участвуем не только мы двое, а еще третий, зритель, перед которым я и он такие, какие должны быть. Кюстин разными именами называет этот показ себя невидимому зрителю.