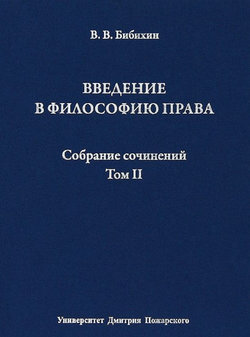Читать книгу Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права - В. В. Бибихин - Страница 4
Программа лекционного курса
II. Особенности права в России
Оглавление19. Единовластие. Тысячелетняя традиция собирания власти, права и авторитета (нравственного, религиозного) в одном лице. Единоличный правитель сам главный источник законов или их толкователь. Единовластие не делится ни с кем своей монополией на принуждение. Независимость права, самостоятельность законодательной и судебной инстанции невозможна. Государство стоит не на правовых отношениях, а на прямых, интимных отношениях жителя с центральным лицом.
20. Собственность. Основная, земельная собственность не становится в полном смысле частной. Земля принадлежит единоличному держателю власти, т. е. всем, раздается и отнимается в меру служения центральной власти. «Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей» (Лев Толстой, дневниковая запись 13.8.1865).
21. Средний класс. Собирание власти в одном центре и текучесть собственности делают возникновение среднего класса трудным. Из книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году»: «Здесь […] богатые – не соотечественники бедным […] В стране, где нет правосудия, нет и адвокатов; откуда же взяться там среднему классу, который составляет силу любого государства и без которого народ – не более чем стадо, водимое дрессированными сторожевыми псами? […] Всякому обществу, где не существует среднего класса, следовало бы запретить роскошь, ибо единственное, что оправдывает и извиняет благополучие высшего сословия, – это выгода, которую в странах, устроенных разумных образом, извлекают из тщеславия богачей труженики третьего сословия».
22. Стабильность закона. При высоком требовании к праву (оно должно отвечать божественной правде) устанавливается убеждение, что эта высокая справедливость невозможна. Массовое неверие в закон вызывает его инфляцию и частую смену. «В России деспотическая тирания есть непрерывная революция (révolution permanente)» (Кюстин).
23. Борьба за право. «В праве человек обладает и защищает условие своего нравственного существования; без права он нисходит до степени животного. Поэтому утверждение права есть долг нравственного самосохранения, полный же отказ от него, ныне, правда, немыслимый, но некогда вполне возможный – будет нравственным самоубийством» (Рудольф фон Иеринг. Борьба за право. СПБ, 1895, с. 17 сл.). «[…] Борьба за право или права […] никак не проявляется в деятельности Московского государства. Всё построено на идее ответственности, обязанности лица отдавать все силы для пользы государства и нести соответствующие повинности и обязанности» (A. M. Величко. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур. СПб., 1999. с. 156 сл.).
24. Работающее и номинальное право. Подчеркнуто гуманный, слишком идеальный закон перестает исполняться и ему надо предпочесть отсутствие закона. «Нередко получается так, что положения Конституции как бы утрачивают свойства правовых норм и становятся нормами-декларациями, нормами-ориентирами» (Б. Н. Топорнин. Сильное государство – объективная потребность времени // Вопр. философии 2001, № 7, с. 3). Слишком большое количество законов приближает «тот порог, переход через который делает это количество необозримым для применения и бесконтрольным для законодателя» (А. В. Мицкевич. Свод законов России – научная необходимость // Журн. рос. права 1977, № 2, с. 4.).
25. Крепостное право. Рядом с показным недейственным законом и независимо от него начинают действовать негласные и полугласные нормы, жестко фиксирующие сложившееся положение вещей. Например, в конце XVI – начале XVII вв. закрепощение крестьян произошло без государственных законов или указов. Крестьяне оказались навсегда прикреплены к той земле, на которой они сидели больше десяти лет или на которой их застала всеобщая перепись 1592 г. Распространенное на Западе мнение о размытости, нечеткости закона в нашей стране не учитывает строгости подзаконных актов, ведомственных распоряжений, внутренних инструкций и распоряжений органов государственного управления, а также просто давно установившихся порядков, которые не нуждаются в законодательном закреплении.