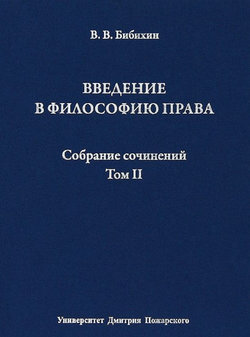Читать книгу Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права - В. В. Бибихин - Страница 11
I. Общие положения
3. Государство-семья
ОглавлениеИнтимные внутрисемейные отношения оказываются основой этого государства, большой семьи. Читая Платона, мы слышим о химическом родстве вокруг царя в государстве как в пчелином рое. Тот же Платон однако представляет себе и другое государство, чем связанное интимной семейной связью, а именно полис, где «надо, сойдясь всем вместе, писать постановления, стараясь идти по следам самого истинного устройства политии»[80]. Это государство мы называем правовым. То, которое описывает Кюстин, конечно ближе к семье. При отце народов и родной партии сохранялось и продолжается до этих наших дней сложное смешение государства-семьи с номинально правовым конституционным государством. Не будем спешить говорить, что на Западе нет такого же смешения.
Выражение семейное право относится к тем положениям общего государственного права, которые распространяются на внутрисемейные отношения. В главе 1 действующего семейного права читаем:
Ст. 1. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.
Ст. 16.1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим.
Ст. 16.2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов.
Ст. 17. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
Мы ощущаем в этих статьях закона что-то диссонирующее с тем, что обычно понимается под семьей. Пункт 1 статьи 31 объявляет каждого из супругов свободным не только в выборе рода занятий и профессии, но и мест пребывания и жительства. Это явно идет против обычного права. Когда один из супругов начинает жить отдельно, говорят: разве это семья, они живут врозь. С точки зрения писаного семейного права здесь нет ни малейшего нарушения. Статьи о совместном имуществе супругов настолько противоречат нормам обычного права, что их бывает трудно осуществить на практике:
Ст. 34.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Ст. 34.2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты.
Неработающая жена в обычном праве довольствуется тем, что даст ей муж. Согласно писаному закону любой доход мужа подлежит разделу поровну.
Ст. 34.3. Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака[81] осуществлял ведение домашнего хозяйства.
Одежда, обувь, зубная щетка мои и при разводе делиться не будут, но кольцо, не надетое на палец, оказывается уже общим имуществом, причем не только при расторжении брака.
Ст. 35.1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов.
Ст. 38.1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен […] в период брака […] по требованию любого из супругов.
Жена, решившая жить отдельно, может потребовать половину доходов мужа. Нужен суд, чтобы доказать по ст. 39.2, что она бросила при этом на мужа их общего ребенка или не имеет работы при возможности ее иметь.
Мы видим, что такое семейное право по стилю не отличается от общегражданского. Говоря о государстве как семье, мы имеем в виду семью в старом смысле, для которой в современном Семейном кодексе оставлена только возможность. Нам важна разница между государством-семьей в привычном смысле обоюдного согласия – в таком случае говорят также о патриархальной семье – и государством-договором. Хотя это странно звучит, но всё то, что в государстве складывается не в порядке привязанностей засвидетельствованного Кюстином рода, можно было бы отнести к области международного права. Люди договариваются между собой как чужие. Вне семьи и государства-семьи теряется возможность устроиться полюбовно, т. е. не обязательно в любви, но надеясь, что стерпится-слюбится, всё уладится без церемоний, по неуставному праву.
Об иностранном облике права мы говорили, как и о естественной трудности перехода к нему из-за его несвойскости. Междусемейные, межплеменные, международные отношения предполагают дипломатию. Граждане полиса договариваются между собой как семьи-государства. Переходя к уставному праву, выходят за рамки семьи. Когда сложился правовой образ жизни, хороший или плохой, удачный или неудачный, обратным, вторичным образом гражданское уставное право с элементами публичного может распространиться и на семью, что мы видели в нашем семейном кодексе. Говоря о государстве как большой семье, о том, что в нем между правителем и подданными те же отношения, как между хозяином и семейными в патриархальной семье, не будем смешивать эту ситуацию с вторичным семейным правом, производным от гражданского (или частного, в отличии от публичного) права.
Как возвращение к родному языку, возвращение от всякого уставного, позитивного права к праву естественному, не забывающемуся, которое внятно и действует без слов, возможно и внутри государства, которое давно живет по нормам позитивного права. В том числе и среди самого правового государства. Так Америка, страна юристов, шатнулась сейчас[82] в момент замешательства под руку и защиту лидера, ищет выхода из трудности в преданности ему. Уставное право оказывается всего лишь служебным под властью этого первичного отношения.
Пытаясь точнее и строже назвать разницу между семейной системой и полисной системой, вспомним один миф Фрейда. Обе противоположные системы на самом деле в каждой стране существуют одновременно и перемешаны до невозможности их распутать, и миф Фрейда проводит между ними искусственную, но эвристически важную, если не решающую границу. Когда-то первобытная орда подчинялась родоначальнику тирану. Он собирал все человеческие отношения на себе и все остальные связи между людьми были подчинены этому главному, упорядочены вокруг и ради него. Никто не смел противиться мощи тирана. Но со временем другая система сравнимой силы возникла в лице сынов тирана, родных братьев. Их было много, они восстали против отца и убили его. Теперь они уже не самовластные тираны. Между ними заключен договор равных, но они унаследовали приемы отца и несут на себе тяжесть совершенного убийства.
Единоличной власти отца соответствует деспотия. Полису соответствует союз братьев. Каждый из братьев мог бы продолжить традицию отеческой тирании, но они договорились устроиться иначе и устраиваются по взаимному согласию. Их право надо называть уже междусемейным, в конечном счете международным; ведь каждый брат потенциально тиран-отец семьи, и в той мере, в какой он отказывается добровольно от тиранической власти, он вступает в уставное отношение с равными.
Это отчетливая схема. Пример: декабристы, восстающие против тирана, принимают схему братства равных. Одновременно братьям грозит скользнуть снова в тиранию. Чтобы удержаться, они должны составить для себя правила, скрепить их договором, для прочности письменным. Люди выходят из замкнутого круга семьи на площадь. Почти сразу начинается смешение, переплетение двух систем, семейной, единовластной, и братской, договорной. Молодой полковник Павел Иванович Пестель именно потому, что больше других боялся за судьбу желанного ему правового государства (для него он написал законодательство «Русская правда»), скорее других был готов опереться снова на авторитарное семейное начало: оно эффективнее, дает больше власти, удобнее в управлении.
В семейной системе действует природное (натуральное, обычное) право. Разница между моим и чужим поступком невелика или ее вовсе нет. Я поступаю как все; другие ведут, показывая как жить. Общность поведения скрепляет и связывает. Народ остается определяющим началом. Этическое и этническое при этом совпадают, как в греческом ἒθος – ἒθνος: сослаться на обычай всё равно что сослаться на то, что все люди так делают.
К тому, что говорилось о чужести, сторонности, иностранности права, можно в порядке развертывания добавить о его тоне, или стиле. В отличие от теплоты, чувственности, страстей, которые на поверхности видны в природном (обычном) праве, как и в семейных отношениях – всё здесь диктует непосредственный авторитет, сила нрава, очарование, привязанность, как в переживаниях Кюстина, касающихся русского императора Николая I, – современное позитивное право с его формальным стилем, по крайней мере на поверхности, холодно и хочет быть таким, отвлеченным от страстей. Таково впечатление от него. Тем важнее будет разобраться, как обстоит дело по существу.
Я говорю сейчас о современном законодательном стиле. Неформальное обычное право полагается на интуицию и молчаливое понимание. Здесь «понимать надо», всё делается «по понятиям», основано на догадке, по сути полускрыто. Техничный формализм современной юриспруденции, которая наоборот ничего не оставляет догадке и молчаливой понятности, держится безличной строгости. Классическое право, древнее римское или так называемые варварские правды, как Русская Правда, показывают еще один, почти совершенно забытый теперь стиль и тон правового документа. Правовая античная классика, например римские правовые документы, – явление совершенно особое. Историки права называют феерический взлет гражданского права в древнеримском обществе «подлинной загадкой истории». Эти документы далеки и от настроений обычного права (личные страсти), и от современной юридической холодности; там что-то другое. Уже по этому признаку Русскую Правду и аналогичные документы нельзя относить к обычному праву.
Современные правовые документы имеют свое особенное качество, назовем его условно техничностью. У технического уровня есть сторона безоценочности. Бесстрастная объективность в науке, в медицине, образовании, в политике отдает определенной безличностью. Врач просит показать голое тело, ученый военный спокойно говорит о проценте солдат, гибнущих на учебных маневрах. Эта безличность технического подхода имеет как опасную сторону, так и хорошую. С плохой стороны безличность открыта в сторону бесстыдства и больше того, садизма (или садо-мазохизма). Выше говорилось о том, что насилие, неотделимое от всякого позитивного (уставного) права, открыто садо-мазохизму.
Забегая вперед, скажем, что предложено философской классикой в целях чистоты, чтобы исключить соскальзывание права в техническую безличность и оттуда в мазохизм. Уставное право должно ограничиваться идеальным требованием, т. е. быть не содержательным, а формальным. Пример универсального формального принципа права уже приводился, по Канту: поступай всегда так, чтобы правила, которым ты следуешь, ты мог бы предложить для исполнения всем без исключения. Содержательным неизбежно останется конечно обычное право. В естественном праве у человека и животных есть, как сказано, страсти, есть место и для греховных страстей, как всякое естественное право предполагает преимущество сильного над слабым, богатого над бедным, однако внутри естественного права нет формального холодного закрепления этого содержания как обязательного.
Еще один пример, когда холодная техничность позитивного права, чисто формального, оказывается необходимой. Речь идет о так называемой презумпции невиновности.
УПК [2001], ст. 8.2: Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Обвиняемый и подсудимый считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке, т. е. собственно судом и только судом с соблюдением всех правовых процедур. Бросается в глаза, что презумпция невиновности сразу же помогает исключить давление на обвиняемого с целью получить от него обвинение самого себя (так называемое признание, которое в строгой правовой системе вообще не принимается во внимание как момент судопроизводства). Обязанность доказывания (onus probandi) лежит целиком на органах обвинения; обвиняемый по закону вообще не обязан ничего доказывать, в том числе и свою невиновность. Его виновность должен доказать суд. Другие следствия презумпции невиновности: предание обвиняемого суду не предрешает вопроса о его виновности или невиновности. Нет обвиненного, осужденного, преступника без суда. Поэтому гражданин имеет право, даже обязан в случаях, где решает не милиционер на месте, а суд после разбирательства, не подписывать акт, где он назван нарушителем. И еще: во всех случаях неясности, неопределенности доказательств, если полное прояснение не представляется возможным, все сомнения должны истолковываться в пользу обвиняемого. Если один свидетель говорит, что в руках обвиняемого был топор, а другой что батон хлеба, причем свидетели повторяют свои показания и других способов установить, что именно было в руках, нет, то судья исключает показание о топоре.
У презумпции невиновности есть менее заметная и чуть ли не более важная черта. Благодаря этой презумпции осуждается не весь человек, а только, так сказать, его виновность.
Уставное право должно оставаться идеальным, т. е. строго говоря невыполнимым. Проговаривание на безличном формальном языке содержательных положений обычного права открывает простор развязному, нестрогому обращению с вещами и людьми. Уставное (позитивное) право не должно быть разверткой обычного права. Оно должно строиться, по Канту, прямостоящим человеком глядя на небо и считываться не с прошлого, а с будущего[83]. Позитивное право у Канта может быть только или идеальным – или никаким.
Кюстиновская Россия живет по обычному, естественному праву. Царят страсти. Император, власть которого ограничена только его убийством, просвещенный и говорящий по-французски, остается по существу всё тем же главарем орды, всевластие которого не уменьшено, а только украшено его внешним блеском.
Император – единственный живой человек во всей империи; ведь есть – еще не значит жить!.. […] Я возвратился к себе, ошеломленный величием и щедростью императора и изумленный бескорыстным восхищением, с каким народ глядит на богатства, которых сам не имеет […] С трудом поверил бы, что деспотизм мог породить столько бескорыстных философов (I, 191).
Они, русские подданные, все оказываются философами в смысле посторонних созерцателей, потому что не рискуют вступить в историю и ограничиваются созерцанием чужой жизни, а единственный, кто живет, это император.
Но, как мы заметили, Кюстин, приближаясь к императору, приостанавливает свой анализ. Отсюда его уже упоминавшаяся непоследовательность. У него есть понимание того, что император тоже несвободен. Он как и все служитель имперского театра, режиссер и исполнитель (как в старину концертмейстер был одновременно первая скрипка) роли при своем собственном идеальном образе, к которому он подтягивается. Философы-созерцатели, должен был бы заметить Кюстин, строго говоря все. Для императора он непоследовательно делает исключение, когда называет его единственным живущим и свободным.
После подавления декабристов, не такого уж легкого и простого дела, – оно на все годы определило стиль поведения Николая I и оставило нервный тик на лице императрицы, – в стране уже нет братства с мощью, сравнимой с силой деспота. Соответственно нет и полиса, нет политики и права, удела свободных. Но вот что позволило Кюстину увидеть в Николае I свободного человека: император сам выбирает, какого права держаться. Помня о таких явлениях как Павел I, чьи реформаторские планы доходили до смены религии в России, мы невольно соглашаемся с Кюстином и начинаем по-новому смотреть на его героя. По Кюстину, этот император мог бы ввести республиканское правление. Ему понятна республика, «способ правления ясный и честный», но он выбрал деспотизм, потому что таков дух нации (I, 211 сл.). Промежуточная форма, конституционная монархия, которая существовала на части империи в узаконенных отношениях между польским сеймом и королем (им был русский царь) и которую Николай недавно, в 1830–1831, разрушил, – «гнусный способ правления» из-за неопределенности, двусмысленности, оставления всего на интриги и борьбу партий:
Покупать голоса, развращать чужую совесть, соблазнять одних, дабы обмануть других, – я презрел все эти уловки, ибо они равно унизительны и для тех, кто повинуется, и для того, кто повелевает […] Я слишком нуждаюсь в том, чтобы высказывать откровенно свои мысли, и потому никогда не соглашусь править каким бы то ни было народом посредством хитрости и интриг (I, 212).
Николай намеренно и сознательно выбрал диктатуру для России. Вместо правового государства – власть над сердцами силой своего нравственного и военного величия, смелости, прозорливости. В основе всех общественных отношений обаяние, запрашивание сердечного чувства, благоговения, любви.
Для России ли только император выбрал быть главой семьи? И с Кюстином он ведет себя не меняясь. Между ними устанавливаются конфиденциальные отношения один на один. Отчасти сознательно поддаваясь окружающим настроениям, Кюстин сам не заметил, в какой мере стал образцовым русским подданным, который больше всего, больше всех, всё доверяет единому правителю.
Император – единственный человек во всей империи, с кем можно говорить, не боясь доносчиков; к тому же до сей поры он единственный, в ком встретил я естественные чувства и от кого услышал искренние речи. Если бы я жил в этой стране и мне нужно было что-то держать в тайне, я бы первым делом пошел и доверил свою тайну ему […] По правде сказать, я изо всех сил противлюсь влечению, которое он во мне вызывает (I, 218 сл.).
Давно и многократно замечено, у западного человека меньше сопротивляемости перед встраиванием в нашу систему чем у нас самих, меньше антител для наших ядов чем у нас. Правда, Кюстин еще так легко позволил себе поддаться и войти в роль верноподданного потому, что у него был в кармане обратный билет из России. Перед сиреной-императором он был как безопасно привязан к мачте.
Как относится западный человек, не менее просвещенный чем император, к этому выбору не республики и уж заведомо не конституционной монархии, а деспотии? Как ко всякому выбору умного и властного человека: с согласием. Пусть в России будет деспотизм. Не это будет проблемой. Каждый народ имеет ровно тот способ правления, который сам заслужил. Позиция Кюстина классическая, та самая, которая традиционно с античности оставалась решающей при всяком философском обсуждении систем правления: лучший способ правления из всех, перебирая от тирании до охлократии, проходя через монархию и демократию, – аристократия, понятая в высоком значении этого слова.
По характеру, равно как и по убеждению, я аристократ и чувствую, что одна лишь аристократия может противостоять и соблазнам, и злоупотреблениям абсолютной власти. Без аристократии и от монархии, и от демократии не остается ничего, кроме тирании, а зрелище деспотизма будит во мне невольный протест и наносит удар по всем моим представлениям о свободе, что коренятся в сокровенных моих чувствах и политических верованиях (I, 219).
Решение бесспорное, потому что чисто формальное и в своей дефиниции тавтологическое: аристократия ведь и значит правление лучших, лучшее правление. Рядом с ним разница между республикой и монархией стирается до невидимости, они обе одинаково соскальзывают в тиранию и деспотию. Здесь, в письме тринадцатом, в одном из лучших своих пассажей Кюстин кратко называет тот порок современного позитивного права, с которого я начал эту пару, – безличность и соответственно узаконение хаоса страстей:
При демократии закон есть некое умственное построение; при автократии закон воплощен в одном человеке – но ведь даже и удобнее иметь дело с одним человеком, чем со страстями всех! Абсолютная демократия – это грубая сила, своего рода политический вихрь, который по глухоте своей, слепоте и неумолимости не сравнится с гордыней какого бы то ни было государя!!! Никто из аристократов не может без отвращения смотреть, как у него на глазах деспотическая власть переходит положенные ей пределы; именно это, однако, и происходит в чистых демократиях, равно как и в абсолютных монархиях (там же).
В Николае деспотическая власть не беспредел, потому что в нем есть как раз лучшее: искренность, надежность, честность. Достоинство. Мужество. Если бы ему удалось поднять этими свойствами Россию, была бы «лучшая власть» – стало быть и то, чем хотела бы быть демократическая республика. Пока есть аристократизм в рослом красивом немце на русском троне, и глядя от него и на него, – всё в порядке. Хотя единственный закон в России – «милость сего божества – приманка» (I, 220), аристократизмом императора всё смягчается и уравновешивается с республиканским правлением, где вместо милости царственного божества – «стремление к популярности» (там же). Разница вот в чем. В демократии надо громко рекламировать себя перед толпой, становиться поневоле говорливым, красноречивым; в самовластии, наоборот, надо научиться льстить не хваля себя, т. е. собственно как-то молча: иначе, говоря о своих заслугах и достоинстве, ты оскорбляешь самодержца, объявляя сравнимой с его заслугами твою заслугу, тогда как он должен быть исключительный. При самодержце каждый должен быть наоборот скромен.
Ведь […] притязания превращаются в права, а подданный, полагающий, будто у него есть права, в глазах деспота – бунтовщик (I, 221).
Молчаливое угодничество, ничего особенно хорошего. Ну, а на республиканском демократическом Западе – болтовня и самовосхваление честолюбивых политиков, беспардонные манифесты, пустые обещания партий ради собирания большинства голосов. Разница невелика. Власть в любом случае остается такой, какой народ. В России, где социальная почва сдвинута, где правящий класс не родной низшему, где нет среднего класса, надо ожидать, что строй будет не как в странах, где средний класс существует.
Ужасы российской монархии объясняются свойством ее подданных. И если бы теперь только к этому немцу Николаю, тирану, тоже страну вроде Пруссии и Австрии. Народ был бы счастливейшим на земле; «деспотизм, умеренный мягкостью обычаев, вещь вовсе не такая отвратительная, как утверждают наши философы» (там же). Но вся картина резко сбита: у Николая подданные не европейцы, а полуазиатская орда. Соединение европейского разума, европейской наукотехники с азиатской стихией страшно, жутко – почему? Кюстину непонятно, откуда жуть. Он говорит странную, противоречивую вещь, из тех, проговаривая которые, сам отказывается объяснять собственные неувязки, и Россия его провоцирует (как позднее Бердяева) на нагромождение контрастов: жуткий порядок этой скрепленной европейской технологией азиатской деспотии «более прочный […] чем любая анархия» (там же).
Слово сказано, прочность. Вечность. Сказано не об императоре, который едва устоял в декабре 1825 года, а об азио-европейской стихии, и конкретнее, о такой ломке людей, втискиваемых в западный порядок, когда они теряют достоинство.
Постоянная, повторяющаяся уверенность Кюстина: неестественность, неорганичность этого образования, российская империя. Оставленная себе, своему росту из своих корней, эта часть света дала бы другую культуру чем «северная цивилизация» воспитанных немцев на русском престоле. При всей симпатии к Николаю, такие вещи, как отсутствие свободы слова, отсутствие справедливого суда, слишком резкое отдаление богатых от бедных без промежуточного слоя, т. е. отсутствие прочной социальной структуры Кюстин правильно считает признаком болезней страны. Одной доброй воли властителя тут мало; даже наоборот, по своей доброте император хочет вмешаться в общественную жизнь, когда важнее было бы отойти в тень и оставить место для разделения властей.
Быть может, независимое правосудие и сильная аристократия привнесли бы покой в умы русских людей, величие в их души, счастье в их страну; не думаю, однако, чтобы император помышлял о подобном способе улучшить положение своих народов: каким бы возвышенным ни был человек, он не откажется по доброй воле от возможности самолично устроить благо ближнего (там же)[84].
«Зависимое правосудие» никакое не правосудие. Не внедренное порядком и дисциплиной право, которое строго говоря всегда останется неправом, а свое, собственное, выросшее из отечественной почвы – вот что можно было бы назвать «независимым правосудием».
Из этого важного, удавшегося места, всей концовки Письма тринадцатого, обратим внимание еще на одно, действительно историческое выражение, вырвавшееся у Кюстина. Он склонен не видеть большой или вообще никакой разницы по сути вещей – т. е. по человеческому достоинству, добротности, доброте, красоте, по калокагатии, можно было бы сказать, и это было бы верно мысли Кюстина, – между своим Западом и русским Востоком. Перебирает разные аспекты, параметры – снова не видит разности. Находит ее в одном.
[…] По какому праву стали бы мы попрекать российского императора его властолюбием? разве тирания революции в Париже уступает чем-то тирании деспотизма в Санкт-Петербурге?
И всё же наш долг перед самими собой – сделать здесь одну оговорку и установить различие в общественном устройстве обеих стран. Во Франции революционная тирания есть болезнь переходного времени; в России деспотическая тирания есть перманентная революция (révolution permanente) (I, 222).
Неустойчивость, подвижность строя. Здесь можно вспомнить из Чаадаева, что Россия не имеет истории. Перманентная революция ее исключает. Революция на Западе пройдет, уверен Кюстин, и Франция снова примет форму, но у России никогда еще не было шанса принять форму. Русскую естественную политическую форму еще никто не видел. У нее и нет возможности появиться, потому что революционный анархопорядок здесь не просто стабильный – он, похоже, вечный.
К перманентной революции как законе русской истории мы обращаемся в попытке понять его природу или существо. Эта природа связана с уверенностью в отсутствии должного (райского) порядка как определяющем настроении страны. Можно определить его как теснящую близость нездешнего рая. Его убедительная, нечеловечески достоверная недостижимость срывает все наши попытки устроения. Она же и упрочивает наше устроение по неписаным законам. Нас теснит присутствие того, от чего мы всегда бесконечно далеки. В уверенности, что мы опоздали к сотворению мира, наша основная опора. Мы твердо знаем, что то, чем мы всегда обделены, нас не подведет.
Кюстин угадывает эту неуловимость райского благополучия, одной из тех вещей, которых специальным, особенным образом нет именно только в России (Седакова), когда замечает:
В России, по-моему, люди обделены подлинным счастьем больше, чем в любой другой части света. Мы у себя дома несчастны, однако чувствуем, что наше счастье зависит от нас самих; у русских же оно невозможно вовсе […] Россия – плотно закупоренный котел с кипящей водой, причем стоит он на огне, который разгорается всё жарче […] (I, 247).
Настроение невозможности праведного устройства и оттого небрежное отношение к любому устройству действует как постоянное подталкивание к срыву. Отсюда статус перманентной революции в стране.
Мы говорили о частой ошибке смешения порядка с правом. Эта близорукость компенсируется интуитивным различением между должным порядком и недолжным. Разница между ними ощущается до всякого осмысления. Американка, высказавшаяся во время московских олимпийских игр 1980 года, что такому количеству охраны на улицах она предпочла бы ограбление, не вдавалась в проблему несовпадения порядка и права, но непосредственно ощущала неправильность такого порядка. Молодой Витторио Альфиери, как он пишет в своей автобиографии, приплыл в Петербург (это был конец XVIII века), увидел выметенную и охраняемую набережную, военный строй домов и не вошел в город: на первом же корабле он вернулся в Европу. Такое же неблагополучие петербургского порядка, каким бы он ни был совершенным, ощущает Кюстин.
Петербург – это армейский штаб, а не столица нации. Как бы ни был великолепен этот военный город, в глазах западного человека он выглядит голым.
Замысел творца кажется узким, хотя размеры творения его громадны: это оттого, что приказу подчиняется всё, кроме грации, сестры воображения (I, 224 сл.).
Относительно громадности замыслов не нужно было особой проницательности Кюстина, замыслы великой державы не могут быть иначе как мировыми[85]. Дело не в агрессивности воинственных русских. Они все втянуты в действие имперской машины, имеющей свою логику и свой размах. Сближение с Европой или отдаление от нее в общем курсе машины великого государства только тактические колебания. Ее стратегия, всё равно, оформленная в государственных документах или нет, значительнее.
Бедные экзотические птицы, оказавшиеся в клетке европейской цивилизации, они – жертвы мании или, вернее сказать, глубоко рассчитанных устремлений честолюбцев-царей, грядущих завоевателей мира: те прекрасно знают, что прежде чем нас покорить, следует подражать нам всегда и во всём (I, 226).
Если мерить величие цели количеством жертв, то нации этой, бесспорно, нельзя не предсказать господства над всем миром (I, 375).
Здесь новая и опять удачная неувязка Кюстина, потому что противоречие самому себе может быть и достоинством. Сначала он говорил, соглашаясь с Николаем I, что тирания отвечает нраву народа. Теперь оказывается, что русские, экзотические нездешние птицы, невольно покоряясь попали под колеса западно-восточной деспотии. Кюстин склоняется в Письме четырнадцатом, т. е. даже еще не дойдя до середины своего краткого русского путешествия, ко второму. Русские пойманные звери, которым удается быть собой только редко и украдкой.
[…] Говорить этим людям не разрешают, но взгляд, одушевленный молчанием, восполняет недостаток красноречия – столько страсти придает он лицу. В нем почти всегда светится ум, иногда кротость и покой, чаще – тоска, доходящая до свирепости; чем-то он напоминает взгляд попавшего в западню зверя (I, 229).
Как в императоре, так в народе есть страсть и обаяние, в том числе обаяние рабства и покорности как смиренного согласия, что полнота жизни принадлежит другому. «Русский находит вкус в рабстве» (I, 230). А суровые условия жизни, легкость умереть? Да, русские легко умирают, и на войне, и в быту, но дело не в том, что не ценится жизнь: скорее так, что во вкус к жизни входит игра со смертью. Без этого жизни не хватает остроты и она не полная. Русская рулетка, как стали позднее говорить, входит в обычай, образ жизни. Биология своя и чужая не ценится, жизнь – еще надо посмотреть. Очень высоко ценится жизнь на пределе, или, как стали говорить позднее, беспредел. Жизнь кажется пресна без остроты риска. Гладиаторские бои в России были бы лишние. Близкое соседство смерти их заменяет.
Железную остроту вносит правящая молния. Не надо обманываться, если в распоряжении властной молнии лошадь и телега. Молнией оттого быть она не перестает. И может быть в российском театре самый популярный спектакль это быстрота и жесткость действий власти.
Временами несколько зевак заставляют меня впасть в заблуждение, будто в России есть люди, что развлекаются ради развлечения […] Но я мигом прихожу в разум при виде фельдъегеря, молча несущегося вскачь на своей телеге […] Он – живой телеграф[86], что везет повеление другому человеку, пребывающему, как и он сам, в неведении относительно замысла, который приводит в движение их обоих[87]; сей второй автомат [!] ожидает его за сотню, тысячу, полторы тысячи лье в императорских владениях. Телега, на которой пускается в путь железный человек, – самая неудобная из всех дорожных карет. Вообразите себе маленькую повозку с двумя обитыми кожей скамейками, без рессор и без спинки; никакой другой экипаж не годится для проселков, какими кончаются покуда все большие дороги, проложенные сквозь эту темную и дикую империю. [Курьер] путешествует до самой смерти, а она у людей, исполняющих это тяжелое ремесло, наступает рано (I, 231).
Правительственная молния не заглушена и не ослаблена тем, что называют темнотой и дикостью народа, скорее наоборот, европейская публика не относилась бы к действиям властей с таким послушанием. Для молнии как раз скорее нужна тьма и глушь, тогда она ярче блестит. Внутри нее только явственнее черты молнии: телеграф, передача замысла от автомата к автомату через железо человека, которого не остановит смерть. Здесь можно говорить об особом, уникальном достоинстве (добродетели, virtus) московского служилого человека. Мрачное упоение молнией правит и ее передатчиками, и исполнителями ее повелений. Жизнь московского служилого человека проходит на пределе выносливости в игре со смертью, с соревнованием в том, кто кого пересилит. Достоинство Кюстина, что он это видит и без наблюдения русской войны, не на примере Бородина, где русские дали выбить половину своих и подались только физически, только в меру этой убыли, а не ради сохранения своих жизней.
Итак, подданные великого государства с единоличным правлением привязаны и к единому главе государства интимно, мечтательно, эротически и электрически. Они невольно увлечены мощью, эффективностью, быстротой, «молнией» властных силовых действий. И, не в последнюю очередь, у граждан великого государства есть увлечение огромностью занимаемого им пространства, которое никто никогда не сможет объехать или обойти. Через эту громадность житель такой страны символически связан с бесконечностью и приобщен к истории. Степень реальной принадлежности человека к своему государству обычно недооценивается. Неверно даже, что его личный интерес, вплоть до сохранения своей жизни, стоит для него на первом месте. Он любит свое государство и готов отдать ему или за него собственность и жизни. По крайней мере часто бывает, что большей реальностью, чем личный интерес, оказывается держава с ее правами на человека.
На качелях между одной крайностью и другой, между мобилизацией и беспечностью, может быть один и тот же человек. Лень зеваки, распущенность гуляк – иногда просто оборотная сторона железного исполнителя, автомата на телеге. Не другой кто, а он же сам, «путешественник до смерти» в безлюдные просторы Камчатки, Сибири, солончаков, Китайской стены, Лапландии, Ледовитого моря, Новой Земли, Персии, Кавказа с царской молнией, от громады молнии засыпает на полпути и глядит бессмысленно и пьяно; его железную службу тогда тянет другой, пока не сорвется – или первый поднимется от сна для продолжения службы. Интенсивное движение подкладкой имеет вечный покой.
В старину, это не очень давно у нас кончилось – может быть с самолетами – в России были приняты очень высокие качели, как можно выше к самому высокому дереву.
Это очень мощное, даже пугающее зрелище […] они взлетают на страшную высоту, и при каждом взлете наступает момент, когда качели, кажется, вот-вот перевернутся, и тогда люди сорвутся и упадут на землю с высоты тридцати или сорока футов; ибо я видел столбы, которые были, я думаю, вышиной добрых двадцать футов (II, 47).
Записывая это, Кюстин думает о размахе и одновременно о шаткости русского устройства. Философу, когда всё качается без остановки и без надежной почвы под ногами, явно нет места. Но поэту – другое дело, для него в России поводов (это другое, чем условия), возможно, больше чем на Западе Европы. У русской мысли два крыла, сильное поэзии и хромое философии. Кюстин:
У философа в России жалкая участь, поэту же здесь может и должно нравиться.
Воистину несчастны лишь те поэты, кто обречен чахнуть при режиме гласности. Когда все могут говорить всё что угодно, поэту остается только умолкнуть. Поэзия есть таинство, позволяющее выразить нечто большее, чем слова; ей нет места у народов, утративших стыдливость мысли. Истина в поэзии – это видение, аллегория, аполог; но в странах, где царит гласность, истину эту убивает реальность, которая всегда слишком груба с точки зрения фантазии. Гению там недостает поэтичности: он продолжает творить, исходя из своей природы, но не способен сотворить ничего завершенного.
В душу русских, народа насмешливого и меланхолического, природа, должно быть, вложила глубокое чувство поэтического […] (I, 232).
В стране, где есть только порядок и нет чутья к праву, даже просто желания его иметь, a fortiori нет воздуха для философии кроме как номинальной. Но поэзия дышит еще чем-то и другим, не только воздухом свободного гражданства, или, может быть, она как-то умеет воровать этот воздух. Эзоп писал басни в рабском состоянии. К поэтическим чертам народа Кюстин относит то, что он «лукав, словно раб, что утешается, посмеиваясь про себя над своим ярмом» (I, 233). Что касается «режима гласности», то его отсутствие в России создало почву для поэзии.
Режим гласности в России срывается тем, что даже когда открыто и известно всё, общее настроение склонно подозревать везде скрытые тайны, в том числе и тайну тех якобы секретных сил, которые создали для себя как прикрытие саму же эту гласность. В свою очередь всеобщим подозрением о тайных рычагах и причинах секретные органы питаются или даже создаются. Интуицией подспудных рычагов подрывается и почти всякое судебное расследование: оно неспособно остаться в правовой плоскости и тонет в стихиях, страстях, интересах – в неписаном праве.
К разбору русской лжи добавим наблюдение Абдусалама Абдулкеримовича Гусейнова[88]. Неправда у русских возведена в принцип. «Красно поле рожью, а речь ложью». «Российские коллеги имеют совершенно странную привычку обманывать без нужды, без видимой пользы для себя». «Что это за феномен бескорыстного обмана? […] Зачем обманывать там, где можно этого не делать?». «Обман – и именно обман как бы на пустом месте, без давления обстоятельств, без желания извлечь особую пользу, обман из-за любви к искусству, словом, просто обман – вошел в наши нравы, стал своего рода неписаной нормой». Мы подчеркнули бы сейчас, читая Кюстина, словá «из любви к искусству» и далее «в наших культурных генах». Любовь к мифу срывает попытки гласности, люди предпочитают видеть за явлением его скрытые или скрываемые формы. Общее настроение нашего мира таково, что правда понимается в принципе как утаенная. Кюстин в разделе о поэзии Письма четырнадцатого почти что называет причину того, почему всё-таки русский народ не «обречен чахнуть при режиме гласности» (232). Всякое открытое сообщение о событиях будет сорвано привычкой видеть глубже, за правдой факта – скрытую.
Сходное сопротивление рациональности Кюстин видит в том, как петербургскому простонародью «удалось придать неповторимый и живописный облик город[у], построенн[ому] людьми, что были начисто лишены воображения» (I, 232 сл.).
Европейские инженеры прибыли сюда учить московитов, как им возвести и отделать столицу, достойную восхищения Европы, а те, привыкнув к военному послушанию, подчинились власти приказа. Петр Великий построил Петербург не так ради русских, как, в гораздо большей мере, против шведов; однако естество народа нашло себе выход, невзирая на почтение к прихотям повелителя и недоверие к самому себе; именно эта непроизвольная непокорность и наложила на Россию печать неповторимости; изначальный характер ее жителей оказался неистребим; это торжество врожденных свойств над дурно направленным воспитанием – зрелище любопытное для всякого путешественника, способного его оценить (I, 233).
80
Платон. Политик 301 de. <См.: Платон. Соч. в 3-х тт. Т. 3 (2). М.: Мысль, 1972, с. 69>.
81
А не только воспитания детей.
82
После 11.9.2001.
83
Immanuel Kant. Werke. Zweisprachige deutsch-russische Ausgabe, т. I. Москва, 1994, с. 246 (…aufrecht zu stehen und den Himmel anzuschauen…).
84
Всё то же сильное место в Письме четырнадцатом. Император не захочет перестать устраивать жизнь подданных, а если подданные захотят, их палками заставят умолкнуть. «[…] Когда бы им вздумалось спорить с людьми, которые по-военному наставляют их и ведут за собой, то люди эти капралы и педагоги одновременно, погнали бы их кнутом обратно на азиатскую родину» (I, 226).
85
См. выше с. 58–59 настоящей публикации («Национальное государство существует как проба мирового. Здоровое чутье подсказывает нам, что задачи государства перетекают в трудные задачи целого мира.») и прим. 55.
86
Телеграф уже, хотя на телеге. Ср.: В. В. Бибихин. Язык философии: «Распространение российского населения на огромных пространствах Восточной Европы и Азии, погруженность этого населения в природную жизнь могла кому-то казаться гарантией медлительной массивности, нелегкости на подъем, вечной “китайской” неподвижности. Вся эта масса народа, прикрепленная, казалось, к громадным объемам природного вещества, против всякого ожидания быстро и решительно отбросила навыки рассудительной обстоятельности, здравого смысла. Сообщение, переданное ранней весной 1917 года из отдаленной столицы по всей стране, действовало не своим содержанием, убеждало не обещанием переустройства жизни на более разумных началах взамен старым, менее рациональным. Сообщение было принято страной как сигнал, вводивший человека в другое, электризованное состояние» <СПб.: Наука, 2007, с. 131>.
87
Они проводники. Император тоже проводник божественной молнии (см. «Язык философии» <с. 130>).
88
А. А. Гусейнов. Язык и совесть, М.: ИФ РАН, 1996 <цитированные места с. 97–100>.