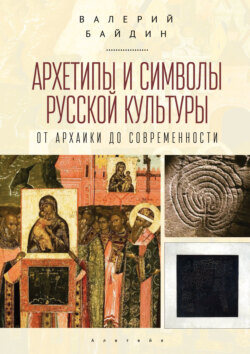Читать книгу Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. - Валерий Байдин - Страница 6
Древняя Русь и Средневековье
Символика цвета и метафизика света в средневековом искусстве
ОглавлениеОбраз незримо горящего купола – ключ к пониманию пламевидной символики всего средневекового храма.[23] Бывшие язычники входили в него, словно в божественное очистительное пламя, – умирали для прежней жизни и возрождались для новой. Обилие свечей, лампад, позолоты вызывало ответное «духовное горение». Выявлялась преображающая сила христианского богослужения и церковных таинств. В белых, пурпурных и златотканных церковных ризах вчерашние язычники видели облачения служителей неба, в монашеских черных одеяниях – образ плоти, «сгоревшей» в огне веры. Весь мир представал подобным огромному «костру жизни».
Сияющий купол, увенчанный крестом, знаменовал завет спасения, союз Церкви с Богом, души с Творцом. Этот «куполовидный» образ повторялся в каждой части храма, в облике каждой святыни. Видимо, уже в XIII–XIV веках сложился, а через столетие-другое обрёл художественную завершённость образ каменной одноглавой церкви с несколькими ярусами восходящих к подкупольному барабану костровидных закомáр (от греческого καμάρα «свод»). Входные арки, наличники окон, ряды заостренных кокошников и купол устремлялись к небу языками невещественного огня.
Образ храма-костра стал важнейшим в русской архитектуре. Используемые для кровли золотящиеся (свежие) или серебрящиеся (высохшие) на солнце деревянные лемехи (а позже медная чешуя) также имели пламевидные очертания, создавали сетку в виде косых крестов, что усиливало общее впечатление от «неопалимого» храма. Огненная символика проникала и внутрь церкви: пламенели алтарные проёмы, навершия царских врат, кивории, иконные киоты и складни, дарохранительницы, дароносицы, кадила, курильницы-кацеи…
Солнечно-огненная символика и пламевидные формы восходили к индоевропейским культам огня и света, в разной степени повлиявшим на многие народы Евразии: кельтов, римлян, балтов, славян, персов, индийцев. Она отразилась в сочетании золота и киновари на православных иконах, запечатлелась в облике Орифламмы (от латинских aurum «золото» и flamma «огонь, пламя») – католической хоругви с золотым крестом на красном поле, усыпанном языками пламени; с XI века она стала священным знаменем французских королей. Следы почитания священного костра сохранились в старофранцузском обряде feu pascal, во время которого пасхальной ночью под открытым небом в молчании разводят костер (символ воскресшего Христа), зажигают от него свечу и торжественно вносят в неосвещенный храм с троекратным возгласом на пороге: «Свет Христов!» На мотиве прямых, перевернутых и пересекающихся костровидных арок строился архитектурный ордер готических соборов, получивший наивысшее развитие в эпоху «пламенеющей готики» XIV–XV веков.[24]
Архангел Гавриил. Деталь иконы. Мастер Даниил, Андрей Рублёв. 1408
Орифламма. Аббатство Сен-Дени. Париж. XI в.
В обоих изображениях используются сочетание красного фона и золотистых деталей орнамента, что подчёркивает внутреннюю связь символики огня и символики света.
Уподобление средневекового храма священному костру оправдано этимологически. В древнерусском языке слово костёр имело несколько значений: «горящая куча дров или веток, сложенные горкой поленья, стог, скирда». Ему соответствуют польское kostra «поленница», латинское castrum и греческое κάστρον – «крепость». Сложенные башенкой дрова или составленные шатром бревна в погребальном костре стали прообразом наверший древнейших русских храмов. Возможно, в предхристианском сознании произошло сближение слова шаторъ с созвучным древнегреческим Σωτήρ «покровитель, спаситель». Средневековый храмовый шатер воспроизводил зодческий образ Спаса – божественного покрова над алтарём и евхаристическими жертвами. Он знаменовал единение верующих с Богом – устремление душ к небу и нисхождение Бога к людям.
Замечательные примеры сложившегося в русском зодчестве средневекового канона являют Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (1405), Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры (1422); Покровский собор в Суздале (1514), московская церковь Преображения в селе Остров (вторая половина XVI в.). О выдающихся художественных достоинствах деревянной «пламенеющей» архитектуры можно судить по нескольким уцелевшим сооружениям: Вознесенской церкви села Пияла в Карелии (1651), Георгиевской села Вершина Архангельской области (1672), Успенской села Варзуга Мурманской области (1674), Покровской села Анхимово Вологодской области (1708), Преображенской церкви в Кижах (1714).
Наиболее полно в русское церковное искусство вошла традиционная славянская символика цвета. Священный белый цвет – воплощение небесного света и красный цвет «живого огня» были основными в народной одежде, в вышивках червленой нитью по беленому холсту. Непременно белой в течение веков оставалась русская печь. Бревенчатые срубы, скобленые стены, полы и потолки изб и церквей отливали светлым золотом. Первые каменные храмы, вероятно, белили внутри и снаружи, подобно глиняным мазанкам (росписи XI века соборов Киева, Новгорода, Полоцка следует считать исключением). При этом белый цвет наружных стен зрительно отделял «Дом Божий» от земли и словно приподнимал к небу. Важное значение придавалось золочению куполов, крестов и предметов культа. В белых, шитых золотом церковных ризах вчерашние язычники видели облачения служителей света, монашеские черные одеяния вызывали в сознании образ плоти, «сгоревшей» в огне веры.
В недрах церковной культуры происходило соприкосновение древнерусской архаики с высокой платоновско-византийской космологией, метафизика «света и цельности» многообразно раскрывалась в храмовых искусствах и в обрядах православного богослужения. Внутрь церкви вели западные, южные и северные входы, а с востока в него проникал утренний свет, знаменуя божественное первоначало мира. Евангельская фраза «Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин.1:5) соединялась с древней религией «небесного света», получавшей иное толкование: Свет облекся в человеческую плоть и сошел на землю в образе Христа.
Православный храм был осмыслен как новое святилище, в котором совершается ежедневное таинство кресения богоподобного света. Лучи восходящего солнца через окно (или окна) апсиды проникали в алтарь – символ могильной пещеры – и «пресуществлялись» (меняли сущность). Бог-Свет зримо воскресал над престолом-гробницей, свет вещественный преображался, становился нетварным, проникал через иконостас, заполнял церковь и людские души. Купольный свод храма оказывался символом «умного» неба, с него струились вниз лучи утреннего солнца, сливаясь со светом невидимым – алтарным. На паперти и лестнице выходящих из храма встречал «свет вечерний», закатный и вместе с тем незаходимый, ибо каждая вечерняя служба была прологом утренней литургии, вновь побеждавшей тьму. Спускаясь по ступеням церкви, человек погружался в меркнущий, «дольний» мир; восходя по ним к храму, поднимался в мир «горний», шел навстречу световидному божеству.
Световая символика пронизывала каждое таинство. В полутьме дрожащие огоньки лампад и свечей казались россыпями звёзд. Мерцая позолотой, церковная чаша плавно, словно солнце, появлялась из алтаря на Великом входе. Круг купола над головой являлся знаком неба и всеобъемлющего духа, прямоугольники пола и стен соотносились с телесностью и землей. Сама архитектура указывала на их единство.
На русское средневековое искусство, несомненно, повлияло непримиримое расхождение в истолковании природы божественного света, возникшее между католическими и православными богословами далеко за пределами Руси. В середине XII века, во время перестройки базилики Сен-Дени в пригороде Парижа, аббат Сугерий, изобретатель витражей и родоначальник готического стиля, при разработке своей метафизики света руководствовался идеями христианского неоплатонизма. Многократно увеличенные в размерах стрельчатые окна, огромная «роза» на главном фасаде, устремленные ввысь своды и более тонкие нежели в романской архитектуре колонны позволяли предельно наполнить дневным светом пространство готического собора. Духовное и художественное кредо Сугерия было запечатлено в надписи на входных дверях церкви Сен-Дени: «Благородное творчество сияет, но пусть это творчество, сияющее в своем благородстве, просветит разум, чтобы он шел сквозь истинный свет к истинному свету, истинными вратами которого является Христос».[25]
Мысль о восхождении человека к Богу с помощью «просветляющего разум творчества» невольно отсылала к библейскому сказанию о Вавилонской башне и в корне противоречила догматам византийского богословия о благодатном нисхождении божественного Света в мир. Таинство Преображения Христа, когда «просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17, 2) стало основой важнейшего праздника Православной церкви, утвердившегося с IV по VIII век. В Католической церкви Преображение было признано лишь в середине XV века, но в качестве второстепенного праздника. Одной из причин тому явилось учение о филиокве. В соответствии с ним человеческое естество Христа считалось изначально причастным Святому Духу и потому не нуждалось в преображении. Уже в IV веке Тертуллиан писал об участии Сына в исхождении Святого Духа: «Дух не имеет другого источника, кроме Отца через Сына». Окончательно учение о филиокве было признано католической церковью в начале XI века, что и привело к церковной схизме 1054 года. Эстетика Сугерия полностью соответствовала идее исхождения Святого Духа «от Отца и Сына» (ex Patre Filioque) или «от Отца через Сына» (ex Рatre per Filium) и ярко воплотилась в световой символике готических витражей. Изображения на них будто сами по себе источают свет, который исходит через них.
Витражи Базилики Сен-Дени. Париж. XIII–XV вв.
Возникшее в XIV столетии учение св. Григория Паламы противопоставляло метаморфозам физического света в готических витражах метафизику света невещественного, «присносущного». По его мысли, в таинстве преображения Христа на горе Фавор в виде света явилось не само естество Бога, а божественная нетварная энергия, под воздействием которой происходит преображение вещественного мира и обóжение человеческого существа. Византия отвергла церковные витражи, полагая, что их многоцветие искажает мистическую природу небесного света: он становится вещественным, «тварным», теряет божественное подобие. В соответствии с православным пониманием, божественный Свет, исходящий от единого Первоисточника, мистически преображает, «освящает» и «просвещает» телесность земной Церкви и потому «сияет внутри» иконы. Особая вещественность золотых, серебряных, усеянных драгоценными камнями церковных украшений, сверкающая смальта мозаик, цветовая глубина икон и фресок, в краски которых первоначально подмешивались измельченные «самоцветы», считались способными воспринять предвечное сияние и под воздействием божественного Света становиться светоносными.[26] В то же время окна храмов и палат, изображаемых на иконах, неизменно остаются тёмными, поскольку олицетворяют творение человека и образ всей христианской культуры, открытые Божественному свету, но не являющиеся сами по себе его источником.
Богоматерь. Мозаика. Собор святой Софии. Киев. XII в.
Символика древнерусского предхристианства помогала восприятию византийской метафизики света. В полутьме вечерней службы дрожащие огоньки лампад и свечей казались россыпями звёзд. Утром, мерцая позолотой, церковная чаша плавно, словно солнце, появлялась из алтаря на Великом входе. В храм вели западные, южные и северные входы, а с востока через окно апсиды в него струился утренний свет, знаменуя божественную творящую энергию. Православный храм был осмыслен как новое святилище, в котором совершается ежедневное таинство кресения богоподобного света. Проникая в церковь, он пресуществлялся (менял сущность). Над престолом зримое сияние становилось нетварным, золотом просвечивало через иконостас, заполняло церковь и души верующих. Купольный свод храма оказывался «умным небом», озарённым светом взошедшего солнца – воскресшего Христа. На паперти и лестнице выходящих из храма встречал «свет невечерний», закатный и вместе с тем незаходимый, ибо каждая вечерняя служба становилась прологом утренней литургии, побеждающей тьму. Спускаясь по церковным ступеням, человек погружался в меркнущий, «дольний» мир; восходя к храму, поднимался в мир «горний», шёл навстречу световидному Божеству.
Для приходящих в церковь первая ступенька паперти становилась мысленным началом лестницы духовного восхождения. Высокое гульбище, возводимое вокруг храма на столбах-опорах, а в деревянных церквях на рубленых подклетах с повалами, расширяющимися кверху, казалось невесомым. Искусство средневековых зодчих рождало образ духовного парения над землей и молитвенного «шествия в небесах». Таковы Георгиевская церковь из села Вершина Архангельской области (1672), церкви Рождества Иоанна Предтечи из села Ширково (1697), Преображения (Вознесения) из села Василёво Тверской области (1732), храм Преображения из села Спас-Вежи Костромской области (1713, не сохр.).
В каменной архитектуре ощущение безвесия вызвали и белая, «бесплотная» окраска стен, и высокие, тающие в утреннем мареве или вечернем полумраке храмовые своды, а в позднейшие века – всё более крупные купола, будто висящие в небе. Чувство потери тела во время продолжительных богослужений усиливалось восходящими клубами кадильного дыма и звуками песнопений. Эти духовные воспарения в Средневековье метко называли летáсами – полетами ума. Образ взлёта над землёй подчёркивали названия входа в храм. Крыльцо, родственное словам крыло и крыть, иначе именовали паперть «преддверие, передняя», созвучное с папорть «крыло». Слово клирос (от греческого κλῆρος «участок земли») на Руси видоизменили в простонародное крылос, называя так место для поющих, словно скрытое от трапезной крылом ангела.
Апрель 2018
Дополнение к главе ««Иконосфера» русского Средневековья» в книге: Валерий Байдин. Под бесконечным небом. М.: Искусство – XXI век, 2018.
23
Байдин Валерий. Древнерусское предхристианство. СПб.: Алетейа, 2020. С. 311–319 и сл.
24
Об архаических культах огня и света см. также: сб. Огонь и свет в сакральном пространстве. М.: Индрик, 2011. С. 11–28.
25
«L’œuvre noble resplendit, mais que cette œuvre qui brille dans sa noblesse illumine les esprits afin qu’ils aillent, à travers de vraies lumières vers la vraie lumière où le Christ est la vraie porte»; цит. по: SUGER. Œuvres. T. I: Écrits sur la consécration. Paris: Les Belles Lettres, 1996, Р. 47.
26
Исследователь средневековой техники иконописи А. Н. Овчинников пишет по поводу состава красок древних икон и фресок: «во всех без исключения колерах присутствуют кристаллические пигменты – киноварь, аурипигмент или реальгар и почти во всех смесях, хотя в самой малой дозе, – кристаллы из группы синих или зелёных (или лазурит, или азурит, или медная зелень). Иначе говоря, три основных цвета спектра (красный, жёлтый и синий) /…/». Овчинников А. Н. Из опыта реконструкции древних икон // Музей и современность. Вып. II. М.: Науч. – исслед. ин-т культуры, 1976. С. 196–230. Стоит сравнить символическое воспроизведение небесного света в византийском искусстве с тем впечатлением, которое возникало при созерцании подобий сияющего солнца в металлических зеркалах архаической эпохи (бронзовых, латунных, серебряных и др.), а также при его отражении от поверхности воды в древнейших обрядовых сосудах.