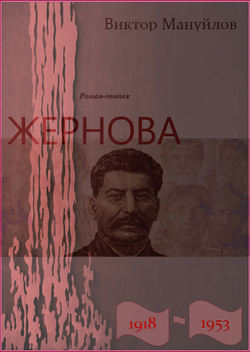Читать книгу Жернова. 1918-1953. Книга восьмая. Вторжение - Виктор Мануйлов - Страница 14
Часть 28
Глава 14
ОглавлениеДудник проснулся от тяжелого придавливающего гула. Сел, потер руками виски – гул не исчез, как бывало, когда у него вдруг поднималось кровяное давление. Взяв автомат, вышел из избушки. Над озером, ярко освещенные всходящим солнцем, на высоте примерно в три тысячи метров, летели самолеты. Летели на восток. Летели девятками, точно волнами, одна за одной, одна за одной. И это были немецкие самолеты – бомбардировщики Ю-88. Их силуэты не спутаешь ни с какими другими. И звук – подвывающий, прерывистый. Где-то в стороне границы часто и глухо ухало, иногда раскатами, словно в грозу.
– Вот тебе и война, – произнес Дудник вслух. – Вот мы и дождались. Вот вам, Артемий Евлампиевич, и объяснение всех последних загадочных и не слишком событий как на границе, так и по ту сторону от нее… Так что будем делать? – спросил он у себя и с тоской огляделся по сторонам.
Над озером плавал туман. Стая чирков вынырнула из тумана и с характерным свистом коротких крыльев стала описывать круги над озером. Значит, кто-то их спугнул. Не обязательно человек. Мог волк или сохатый, пришедшие на водопой, могла и лиса. А может быть, самолеты? Все может быть. Но лучше все-таки поостеречься.
И Дудник вернулся в избушку. Взялся было за вещмешок, но раздумал и сел на топчан: если придет враг, у него есть чем встретить. Если друг… Впрочем, какое это имеет значение? Никакого. Ему никого не хочется видеть, он никому ничем не обязан. Даже самому себе.
До границы отсюда километров двадцать. До штаба отряда чуть больше. Если это действительно война, то пограничники уже воюют, и подполковник Старостин, на смену которому он должен явиться в штаб отряда в понедельник, сейчас командует этим отрядом…
Булькающий смех вырвался из горла Артемия. Он и сам не знал, чем вызван этот смех, потому что положение его было не столько смешным, сколько глупым. Зря он сжег машину: на ней до границы добрался бы за час-полтора, а теперь топай на своих двоих.
Он представил себе, что из штаба в Каунасе звонят в отряд: «К вам прибыл подполковник Дудник?» – «Никак нет». – «Черти его где-то носят…»
Но, скорее всего, им не до Дудника. Ни им, ни кому-то еще. Даже Цветане.
И Артемий вспомнил жену, их последнюю размолвку.
Цветана сидела на постели в длинной холщовой рубахе, все такая же стройная и красивая, такая же желанная, как и в первую их ночь, но совершенно недоступная для него. Комкая платочек, она говорила громким шепотом, чтобы не разбудить спящую дочь:
– Ты убил во мне веру в людей, Тёма, – говорила она, и в голосе ее слышались горечь и удивление, будто она только сейчас догадалась, почему жизнь ее пошла не так, как ей мечталось. – Ты убил во мне всякие идеалы, уверенность в себе. Я только и делаю, что сомневаюсь, сомневаюсь и сомневаюсь. Раньше я не боялась говорить то, что думаю. Сегодня я не знаю, что мне думать, и я боюсь говорить об этом даже с подругами. Впрочем, и подруг у меня нет. Я стала подозрительной, в каждом человеке мне чудится доносчик. Раньше я не делила людей на евреев, литовцев, немцев и всех остальных, теперь я не могу без брезгливости смотреть на человека, зная, что он еврей, эстонец или немец – неважно кто, – хотя этот человек, может быть, ни в чем не виноват ни передо мною, ни перед остальными людьми… Но ведь так жить нельзя, Тёма! Это ужасно! Я перестала смеяться, – горестно шептала Цветана. – Люди вокруг смеются, они во что-то верят. А я не могу… Что ты со мной сделал, Тёма? Что ты сделал? – воскликнула она, заламывая руки.
Артемий сидел за столом, пил чай с бутербродами. Он механически откусывал от черного хлеба и лежащей на нем дольки ветчины, механически жевал, потом отпивал глоток из стакана. Молча смотрел перед собой, но краем глаза видел Цветану и чувствовал, как в душе его разрастается что-то черное и удушливое.
Зачем он рассказал ей о себе, о своей работе, рассказал со всеми подробностями, ужас которых открывался перед ним в его же рассказе, ужас, который не посещал его в действительности? Он знал, зачем: ему хотелось очиститься, ему хотелось сочувствия и участия. А еще – он не соображал, что делал. Он говорил и говорил, говорил до тех пор, пока его не начал бить припадок.
По-видимому, тогда Цветана ничего не поняла из его рассказа. Может быть, не поверила, не осознала, о чем он ей исповедался. Осознание пришло значительно позже, хотя Артемий больше не повторял своей исповеди, вел себя так, словно ничего ей такого и не говорил. Но сомнения в душу он ей заронил, и оно разрослось чертополохом, заслонив перед нею все остальное, разъедая душу и отравляя сознание. Теперь Артемий жалел, что ничего не сделал, чтобы сгладить первое впечатление от своей исповеди, даже не подумал об этом, хотя подумать было нужно.
«Правда – страшная штука, – думал Артемий, слыша и не слыша жалобы Цветаны, – а люди – ничтожные трусы и эгоисты. Им легче жить, когда они не знают всей правды, они довольны, что кто-то делает необходимое для жизни общества грязное дело, не посвящая их в свою работу. А когда узнают о ней, проклинают таких людей, презирают их и сторонятся. Вот и Цветана – она не выдержала столкновения с действительностью, которая не приоткрылась ей после ареста отца и даже ее самое. Она посчитала это случайностью, недоразумением, и только вдумываясь в открывшуюся ей правду, уяснила себе не только внешние черты этой действительности, но и тщательно от нее скрываемое содержание. И надломилась. А с нею надломилось и ее отношение ко мне» – подвел итог своим рассуждениям Дудник.
Ему пора было на службу, а он думал о том, как ему переломить настроение Цветаны, чтобы сегодняшнюю ночь не пришлось опять спать на раскладушке. Он любил ее, любил до спазмов в желудке, до удушья. А она уходила, уходила, уходила… И вместе с нею из его жизни уходило что-то важное, что еще держало его на поверхности.
Он давно потерял всякие ориентиры. Жил по инерции. Не верил ни в бога, ни в черта, ни в Ленина, ни в Сталина. Когда Артемий обнаружил в себе это неверие, он тоже испугался, но испуг прошел довольно быстро, зато в душе не осталось ничего: ни страха, ни надежд. Одна только безумная любовь к этой женщине, красивой и даже весьма неглупой, но тоже с каким-то изъяном, или, лучше сказать, с чисто женским восприятием мира. Даже рождение дочери ничего не изменило в их отношениях. Наоборот, Цветана уходила не просто от него, она уходила к дочери, загораживаясь ею и, по-видимому, оправдываясь. Иначе откуда бы в ней такое упорство и такая непонятная целеустремленность, точно где-то вдали, где не было Дудника, ее ждали одни только радости?
Дудник вздохнул и лег на спину, подложив руки под голову. Пахло старым сеном, мышами, плесенью. В углу, за каменкой, турлыкал сверчок. Низко, над самой избушкой, прошли самолеты, от их рева с потолка посыпалась какая-то труха.
Дудник вспомнил, что давно ничего не ел, и удивился, что не чувствует голода. Да и лень было вставать и возиться с едой. Что-то недодуманное, недочувствованное бродило в нем, пытаясь облечься в словесную форму. Думать мешал гул самолетов, а еще это странное ощущение, что он, подполковник Дудник, никому ничего не должен, никому ничем не обязан. Тем более что свою войну он уже выиграл: четверых уложил, одного потерял – весьма неплохое соотношение. Если бы и все так, война закончилась бы через пару месяцев. Но так, увы, не бывает. А если судить по непрекращающемуся гулу самолетов, все как раз наоборот.
Вспомнилось, как встречался с немцами на границе всего лишь год назад. Ничего, люди как люди. Несколько высокомерны и чопорны, а в остальном вполне нормальны. Хотя, конечно, фашисты. Но что такое фашизм? Идеология или человеческая сущность? Или в той или иной идеологии выражаются те или иные национальные особенности? Как, например, в еврейском сионизме. И не потому ли евреи так тщательно оберегают свою идеологию от постороннего глаза, наряжая ее в цветные лоскутки и обволакивая цветистыми речениями? Не оберегали бы, давно растворились бы среди других народов, ан нет – стоят наособицу и при каждом удобном случае показывают свои сионистские зубы.
А впрочем, черт с ними со всеми! Ему-то, бывшему подпаску, что до них! Вот если бы всей этой сволочи еще и до него, Дудника, не было никакого дела, тогда бы в мире наступил мир и согласие. А то ведь приходится драться, часто не видя, с кем именно. Цветана этого не понимает. А он, хотя и понимает, но тоже не железный. Все изнашивается, всему приходит конец.
А может, эта война не против него, Дудника, а против тех сил, которые вызрели на его земле, с которыми он не мог справиться сам, потому что его заставляли справляться не с теми, с кем надо было? Кому он служил? Народу? Родине? Начальству? Себе? Кому, кому, кому? А может быть, Левке Пакусу с его еврейской нетерпимостью и еврейским фанатизмом? Или грузину Сталину? Но какие тут связи и существуют ли они на самом деле? Огромная страна, безбрежные пространства. Раньше, в стародавние времена, о которых он знает только из книг, если человеку становилось невмоготу от притеснения властей, он уходил в тайгу, в степи, в тундру, иные шли искать новых земель. За морем, за океаном. Оставались на месте лишь самые терпеливые, покладистые. Непокорные уходили, неравнодушные. А нынче никуда не уйдешь. Все описано и занесено в амбарные книги. Каждая речка и каждый горный распадок. Непокорных загнали за Можай, покорные верны своей покорности. А дальше что?
А как хорошо пахнет по утрам деревня парным молоком и печеным хлебом! Коровы пылят по улице, хрипло ревет общинный бугай с кольцом в розовых ноздрях. Туман стелется над лугом, ласточки носятся в солнечном свете, а само солнце величаво выплывает из-за зубчатой стены угрюмого леса, и приглушенный расстоянием колокольный звон скользит по его лучам…
Никогда этого уже не будет. Ни-ко-гда.
По шоссе в сторону Вильнюса нескончаемой чередой грохочут танки с белыми крестами на пятнистой броне, гудят машины с пехотой, трещат мотоциклы. Слышится губная гармошка, веселый, беспечный смех здоровых солдатских глоток.
А по обочине, навстречу танкам и машинам, в пыли и бензиновой гари, ползет серая лента пленных красноармейцев. Рев и гул моторов слились с монотонным шарканьем множества пар ног, точно это старики, а не молодые и здоровые люди, еще вчера бойко маршировавшие по улицам и площадям городов, по плацам военных лагерей. У большинства в глазах смертная тоска. Здоровые поддерживают раненых, многие босиком.
Но есть среди пленных и такие, которые весело оглядывают немецкие танки, подмигивают сидящим в кузовах солдатам. И шагают они бодро, и шинели при них, и сидоры горбом топорщатся за спиной. Так и кажется, что эти красноармейцы то ли не понимают, кто они теперь такие и куда их ведут, то ли такой исход для них не явился неожиданным. Остальные посматривают на них неодобрительно, но молчат, растерянные и подавленные случившимся.
Немцев-конвоиров не так уж и много, они разомлели от жары, рукава засучены, воротники расстегнуты, каски болтаются на поясном ремне, но винтовки и автоматы на взводе и пальцы на спусковых крючках.
Вечереет. С запада наползает лиловая туча, верхушка ее переливается золотом, низ черен и время от времени мерцает сполохами молний.
Артемий Дудник затаился в густой тени молодых елок. На нем кирзовые сапоги, солдатская форма, через плечо шинельная скатка, за спиной тощий сидор, в опущенной руке немецкий автомат, за поясом немецкие гранаты с длинными деревянными ручками. Лес, набухающий душными сумерками, молча взирает на ползущую по дороге, ревущую моторами и лязгающую железными траками бесконечную колонну какой-то механизированной немецкой части, на пленных, бредущих в обратную сторону. Туча все ближе, она растет, покрывая голубое небо, наползая на солнце.
Чуть качнулась еловая ветка – и лес поглотил Дудника, растворил среди сосен и елей, берез и осин.