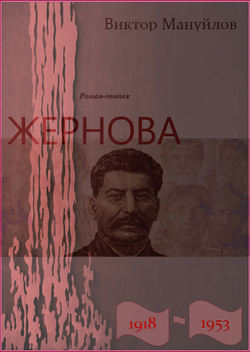Читать книгу Жернова. 1918-1953. Книга восьмая. Вторжение - Виктор Мануйлов - Страница 7
Часть 28
Глава 7
ОглавлениеТело кружится в хаотическом неуправляемом полете. И теперь уже немец пристраивается сзади, нависая над хвостом истребителя старшего лейтенанта Дмитриева. Дмитриев выворачивает голову назад, пытаясь разгадать маневр немца, но что-то мешает ему повернуть голову как следует. Тогда он сбрасывает газ и проваливается вниз. Над ним медленно проплывают остроносые пули. Они словно ищут, куда бы им шлепнуться, что бы такое продырявить. Дмитриев вжимается в сидение, втягивает голову в плечи, он чувствует, как затылок его и спина холодеют и покрываются мурашками в ожидании удара. Вот-вот пули заметят его и спикируют вниз, на его кабину. Но они плывут и плывут куда-то вперед. Так ведь там, впереди, машина капитана Михайлова! «Лешка! – орет Дмитриев. – Берегись!» Лешка Михайлов оборачивается, Дмитриев видит его улыбающееся лицо – точь-в-точь такое, как после первого сбитого им японца. И в тот же миг пули превращают лицо капитана в кровавую маску. Голова Михайлова клонится к плечу, от фонаря его кабины летят во все стороны куски плекса, окрашенные черной кровью. И все это в полнейшей тишине. Словно в немом кино. Потом над Дмитриевым проплывает размалеванное брюхо немецкого истребителя. Немец чуть заваливает машину на крыло – и Дмитриев видит теперь уже лицо немца. Тот кричит что-то, широко разевая рот…
И вдруг точно прорвало плотину: ревут двигатели, воют пропеллеры, стучат пулеметы, свистит в ушах воздух, хлопают разрывы зенитных снарядов, самолет трясет, бросает то вверх, то вниз. «Вот попал в переплет», – думает старший лейтенант Дмитриев, изо всех сил сопротивляясь охватившему его наваждению. А чей-то голос настойчиво повторяет одно и то же слово: «Война! Война!»
Старший лейтенант с трудом разлепляет тяжелые веки и видит над собой скуластое лицо с раскосыми глазами, в которых застыло отчаяние и ужас. Кровать ходит ходуном, звенят стекла, хлопают двери, стоит адский грохот. Дмитриев зажмуривает глаза, но звуки не исчезают. Кто-то трясет его за плечо и орет дурным голосом:
– Таварыш камандыр! Вставай нада! Самалот лытай нада! Вайна, таварыш камандыр!
«Какая еще к черту война? – сквозь похмельное отупение пытается пробиться к реальности Дмитриев. – Это мне снится. И окровавленное лицо Лешки – тоже».
Но отчаянный крик слишком настойчив, твердые звуки «а» безжалостно сверлят одурманенный мозг, и Дмитриев снова открывает глаза.
Скуластое лицо, раскосые глаза – все повторилось.
– Ты чего орешь? – на всякий случай спрашивает Дмитриев, щупая смятую постель: Клавочки нет, значит, уехала.
– Вайна, таварыш камандыр! – обрадовалось лицо. – Самалот лытай нада! Мыхалав ехай нада!
И тут до старшего лейтенанта доходит, что перед ним посыльный из полка, что грохот за окнами гостиницы и нервный звон стекла – реальность, что сон его переплелся с явью, что он проспал начало войны, что его товарищи в воздухе, дерутся с немцами, а он в постели, в одних трусах…
Дмитриев рванулся, чуть не сшибившись лбами с посыльным красноармейцем, начал шарить одежду. Красноармеец, что-то лопоча, путая русские слова с родными, помогал ему одеваться.
Где-то настойчиво и методично ухали разрывы бомб. «Полусотки, – определил Дмитриев. – Станцию бомбят». Потом в эти звуки вклинились другие, более слабые: гул самолетов, крики, топот ног в гостиничных коридорах, тряский перестук тележных колес.
Дмитриев выскочил из номера.
В коридорах метались люди, в основном женщины и дети. Молодая женщина, с распущенными волосами и широко распахнутыми от ужаса глазами, кинулась к нему, вцепилась в рукав гимнастерки.
– Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Господи! Что же нам делать? Куда идти? Это война или провокация?
– Война! – крикнул Дмитриев, пытаясь оторвать от себя руки женщины. – Уезжайте отсюда! Уезжайте в Россию! Только не на станцию! Там бомбят. Пешком. На попутках! Уходите!
Он кричал громко, чтобы слышали все: и кто был в коридоре, и кто выглядывал из номеров, и кто не выглядывал, выкрикивал, впервые с каким-то мстительным наслаждением произнося слова, которые слишком долго были запретными:
– Уходите! Все уходите! Быстрее уходите! Война!
Его обступили, к нему тянулись руки, он видел наполненные слезами глаза, перекошенные страхом лица. Это были все жены командиров, многие с детьми, привыкшие находиться рядом со своими мужьями. Бросить мужей в такую минуту, бежать куда-то – не только страшно, но и немыслимо. Он мог бы сказать этим беззащитным женщинам, что войск поблизости нет – таких войск, которые могли бы противостоять немцам, а те, что есть, застигнуты врасплох, гибнут под бомбами, что немцы не сегодня-завтра окажутся здесь, во Львове, что они все стали заложниками чьей-то преступной глупости.
Но он не мог сказать им этого. К тому же он мог ошибаться: войска подойдут, ударят, опрокинут. Может, уже бьют немцев, может, уже на той, на не нашей стороне. Может, это такая тактика: одно выставить напоказ, другое тщательно спрятать. Не все ему сверху видно, не все известно. Да и некогда разговаривать, утешать, давать советы: его ждет самолет, его ждет небо, где наконец-то он посчитается за все. И за вчерашний день тоже.
И тут сзади раздался голос:
– Я бы не советовала вам, товарищ старший лейтенант, сеять панику. Вы просто паникер. А может, и трус.
Голос был металлический, хорошо отшлифованный и отполированный. В коридоре сразу стало тихо. Дмитриев оглянулся на голос.
– Да-да! Это я вам говорю, товарищ старший лейтенант. Это не война, а провокация. Так указывает товарищ Сталин. Красная армия сейчас накажет провокаторов, чтобы им впредь было неповадно. Не надо никуда ехать, не надо никуда бежать, товарищи женщины! И не надо слушать провокаторов-паникеров. Даже орденоносных.
Перед Дмитриевым стояла женщина одинакового с ним роста, стройная, красивая, с коротко остриженными волосами. Он успел только взглянуть в ее кукольно-большие серые глаза, как совсем рядом раздался сильный взрыв, потом еще несколько. С потолка посыпалась штукатурка, зазвенело разбитое стекло, потянуло дымом, закричали женщины, дети. И эта женщина тоже. Она даже присела, закрыв голову руками.
– Дура! – рявкнул Дмитриев, шагнув к ней и даже наклонившись, враз избавившись от сомнений и надежд: если были бы где-то спрятаны войска, они бы уже действовали, они бы не позволили так безнаказанно бомбить город. Да и он сам – он не торчал бы здесь, в этой гостинице, а был бы в небе, бил фашистов… А эта женщина…
Где-то он видел таких женщин… в каких-то конторах, очень одинаковых женщин, очень похожих друг на друга и повадками, и прическами, и платьем. На гражданке – там все чужое, непонятное, там постоянно происходит что-то такое, что потом роковым образом отражается на армии, на нем самом. Он ощутил это в прокаленных солнцем монгольских степях у реки Халхин-Гол, потом в заснеженной Финляндии. Оттуда шли бессмысленные приказы, непонятные аресты командиров, дикие партийные судилища и безотчетный страх, что и ты можешь оказаться врагом, что и в тебе могут обнаружить какие-то искривления мыслей и желаний.
– Вельможная дура! – выкрикнул он в сердцах, не находя таких слов, чтобы можно было коротко и убедительно опровергнуть тупую уверенность этой куклы. Но женщина не слышала его: зажав уши руками, она сидела на полу, беззвучно открывая и закрывая рот. И никто уже не слышал: все бежали к выходу, в ушах звенел непрекращающийся крик – на одной высокой ноте. Дмитриев махнул рукой и тоже побежал к выходу вместе со всеми, но на лестнице все сбились в кучу – не протолкнуться.
Дмитриев кинулся назад, заскочил в какой-то номер. Второй этаж, можно было бы прыгнуть, но внизу камни, доски, стекла. Не хватало еще покалечить ноги. Зато под окнами соседнего номера навес парадного гостиничного подъезда…
Заскочить в номер, открыть окно, спрыгнуть на навес, затем с навеса на землю – дело одной минуты.
Первое, что Дмитриев увидел, вскочив на ноги, это разорванная на части лошадь, опрокинутая телега, тело бородатого мужика в вылинявшей ситцевой рубахе, лежащее рядом с телегой, намотанные на посиневшую руку вожжи. Среди развороченной мостовой дымятся воронки, на противоположной стороне улицы горит угол дома. Куда-то бегут люди: одни в одну сторону, другие в другую.
Дмитриев оглянулся, ища своего посыльного.
– Таварыш камандыр! – услыхал он знакомый голос. – Лошад ест! Ехай нада!
Посыльный держал под уздцы двух оседланных лошадей. Он помог Дмитриеву забраться в седло, крикнул что-то гортанное, припал к лошадиной гриве и погнал с места в галоп. Дмитриев устремился следом.
Верхом старший лейтенант ездил только в далеком детстве. В ночное. Охлюпкой. Оказалось, что тело хорошо помнит, как себя вести. В седле и в стременах даже удобнее, надежнее как-то. Поэтому приноравливался он не слишком долго. А вот красноармеец-посыльный – сразу видно: лошадь для него – родная стихия.
«Ему бы в кавалерию, – подумал Дмитриев, – а не хвосты самолетам заносить». Потом он перестал вообще о чем бы то ни было думать: увиденное ошеломляло, отупляло своей непоправимостью, неотвратимостью.
Над городом группами и в одиночку летали немецкие самолеты. В основном – тихоходные Ю-87. Они пикировали, кидали бомбы, стреляли из пушек и пулеметов. И ни одного нашего истребителя! Ни одного! Где же самолеты его полка? Где самолеты других полков? Чем они заняты? Дмитриев ничего не понимал. И с яростью понукал свою лошадь.
За городом дорога оказалась пустынной. Километра через два они повстречали две армейские фуры, в них лежали и сидели раненные красноармейцы. Белели повязки, чернела проступающая кровь. Сидящий на передней старшина-сверхсрочник крикнул что-то Дмитриеву, показывая рукой за спину и в сторону, но Дмитриев не расслышал и даже не придержал лошадь. Скорее, скорее на аэродром!
Шоссе вырвалось из теснины меж старых могучих тополей, ветви которых переплелись высоко над головой, и перед Дмитриевым открылся простор, наполненный солнечным светом и неподвижными дымами над едва проснувшимся лесом. Там, меж дымами, кружились маленькие самолетики, иногда вспыхивая отраженным солнечным лучом. Там был аэродром, там был полк, там были его товарищи. И он уже представлял себе, что там могло произойти, пока он спал в гостиничном номере пьяным сном.
До слуха Дмитриева долетали глухие взрывы, словно кто-то топал тяжелыми сапогами в дощатый пол в пустой комнате. Или вдруг часто-часто застучит, точно озороватый мальчишка пробежит вдоль забора, прижимая к штакетинам палку.
Так вот почему над Львовом нет наших истребителей! Ах, гады! Ах, сволочи!
Слева на шоссе из лесу наползал желтоватый туман. От него тянуло ужасом смерти. Здесь, невдалеке от дороги, стояла какая-то артиллерийская часть. Каждый раз, проезжая мимо, Дмитриев видел одну и ту же картину: палатки, коновязи с лошадьми, зачехленные пушки, штабеля зеленых ящиков, иногда топающие по плацу красноармейцы. Сейчас все это было разворочено, деревья повалены и расщеплены, палатки сорваны, коновязи разрушены, возле них мертвые лошади, зеленые ящики раскиданы, желтые снаряды и гильзы поблескивают в траве и среди кустов, из-под корневища вывороченного из земли дерева торчит ствол лежащей на боку пушки. И весь этот страшный погром затянут удушливым дымом сгоревшего тола.
«Неужели все погибли? – мелькнуло в голове старшего лейтенанта, не заметившего в этом бомболоме ни единой живой души. – Этого не может быть. Хоть кто-то же должен остаться…»
Дмитриев вспомнил, что вчера они взяли в кузов двух молоденьких лейтенантов-артиллеристов, направлявшихся во Львов. Лейтенанты слезли недалеко от железнодорожного вокзала. Может, хоть эти двое остались в живых, не попали под бомбы. Да еще две фуры с ранеными, встреченные им несколько минут назад. Наверняка здесь есть еще раненые, нуждающиеся в помощи… Но старший лейтенант даже не придержал свою лошадь. Наоборот, он все нахлестывал ее и нахлестывал.
Бессильная ярость душила Дмитриева, но видел он перед собой красивую женщину с кукольно-большими глазами. Почему-то именно эта женщина связалась в его сознании с теми, кто оставлял без внимания его рапорта, кто не позволял ему сбивать немецкие самолеты, унижая его солдатскую душу, кто беспечно выставил наши войска на поруганье врагу, по чьей вине везде царило какое-то совершенно непонятное ему, солдату, благодушие и самоуверенность, словно фашистов можно запугать одними заклинаниями, одним видом солдатских палаток, танков, орудий и самолетов.
Ах, ему бы только добраться до своего «Яшки»! Только бы поскорее добраться. Даже если на нем еще не успели заклеить полученные раны…
Выстрел раздался неожиданно и так близко, что Дмитриев вздрогнул и припал к лошадиной холке. Ему показалось, что и лошадь тоже вздрогнула и прибавила ходу. В следующее мгновение он увидел, как красноармеец-посыльный, скакавший впереди, запрокидывается назад, на круп лошади, безвольно взмахивает руками, а потом летит вниз и, словно тряпичная кукла, несколько раз кувыркается на дороге. Его лошадь, лишившись седока, вдруг бросается в сторону, перепрыгивает через канаву и пропадает из глаз.
Второго выстрела Дмитриев не слышал, зато хорошо слышал, как рядом с его головой вжикнула пуля.
Почему-то выстрелы не вызвали у него удивления. Наверное, так и должно быть, когда одни долго и тщательно готовятся к войне, а другие благодушествуют. Только бы не убили и не ранили здесь, на земле. Погибнуть в воздухе – совсем другое дело.
И старший лейтенант Дмитриев погоняет и погоняет взмыленную лошадь.