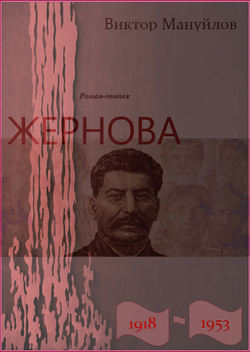Читать книгу Жернова. 1918-1953. Книга восьмая. Вторжение - Виктор Мануйлов - Страница 9
Часть 28
Глава 9
ОглавлениеО том, что началась война, в Мышлятино, где проводила лето Мария Мануйлова со своими детьми, узнали в тот же день, и уже к вечеру двум сыновьям Михаила Васильевича Ершова, Петру и Николаю, прислали повестки из военкомата с указанием явиться на сборный пункт на станцию Спирово. И не только им, но и еще нескольким парням восемнадцатого-двадцатого годов рождения. И так по всем деревням. И все деревни в округе, занятые обычными сельскими делами, ахнули и стали спешно собирать будущих воинов в дальнюю дорогу, закупать в сельмагах водку и всякие продукты, резать овец и свиней, рубить головы курам и гусям – у кого что имелось, чтобы проводить, так уж проводить, как исстари ведется на Руси.
И на другой день с утра варили-жарили-парили, потом ели-пили, орали песни до хрипоты, плясали до изнеможения, выли-голосили до самого утра, а утром, не проспавшись, опохмелились и повезли своих кровинушек в телегах и бричках, разряженных лентами и цветами, под перезвоны колокольчиков под дугой, под визги и всхлипы гармоник, под стоны жен, любушек да матерей. Там сдали с рук на руки угрюмым военным и повлеклись назад, усталые, вялые, раздавленные свалившимся несчастьем, чтобы снова впрячься в хомут пропахшего землей и навозом крестьянского труда, потому что работников поубавилось, а поля остались все теми же, скотина все той же, и сено косить уже подходило время, и картошку окучивать да пропалывать, и много чего еще.
После проводов племянников Мария Мануйлова стала собираться домой, в Ленинград. Упросила брата, Михаила Васильевича, съездить на станцию за билетом. Жена его, Пелагея Архиповна, отговаривала Марию, не пускала:
– Ну, куды ты поедешь? – ворчала тетка Пелагея, двигая ухватом чугунки по печному поду. – Приедешь домой, а дома что? Мужик в санатории, ему там еще дён десять прохлаждаться, а ты сиди дома и жди. Вот приспичимши, прости господи, в город ехать. Век бы его не видала, город-то энтот. В Тверь-то поедешь, а там народишшу, народишшу… И все толкаются, кудый-то бегут… А куды бечь-то? И не ведают того.
– Так война ж, тетенька, – пыталась настоять на своем Мария. – Мало ли что…
– А и не много, – не сдавалась Пелагея Архиповна. – На моем веку-то уж сколько энтих войнов бымши – страсть! И с турками воевамши, и с японцами, и с германцем, и друг дружку резамши, а ничо, живем помаленьку. И ты живи помаленьку, неча спешить: все на том свете будем.
– Так Вася – он же в этой самой… – как ее? – где санатория его… Там же стреляют. Их же, небось, по домам отпустят. Он приедет, а нас нету.
– Ну и что? Маленький, что ль, твой Вася? Приедет, на работу пойдет, счас всем на работу идти велено, больной али немощный какой, в отпуску али еще где, а все при деле должны находиться. Потому как – война.
Вечером из Спирово вернулся Михаил Васильевич, сказал, что достать билет невозможно, все поезда идут полнехоньки, но он попросил свояченицу, она в Спирово учительствует, чтобы достала, а ему недосуг там задерживаться: дела.
И Мария стала ждать.
Днем то за детьми смотри, то по дому работа, то в поле, – некогда переживать и оставаться наедине со своими страхами, а как в доме стихнет все, лишь сверчок за печкой заливается, так тоска схватит за сердце когтистой лапой и давай царапать и сдавливать, и кажется Марии, что Вася ее где-то в чистом поле лежит раненый, зовет ее, Марию, а она здесь, в деревне, и некому ему, Васе ее, помочь, водицы дать, пот отереть со лба, приголубить. Заплачет Мария горькими слезами да так на мокрой подушке и уснет. А с утра все то же: дети, хозяйство, работа…
Миновал день, другой, третий. И однажды под вечер прибежал из правления Михаил Васильевич и прямо с порога крикнул:
– Маня! Где ты там? Сбирайся давай! Только что позвонимши из Спирова… Аня сказамши, что билет купимши тебе на сегодня, на девять вечера.
Ахнула Мария, схватилась за вспыхнувшее лицо обеими ладонями, заметалась.
– Да ты не спеши, Маня, – перевел дух Михаил Васильевич. – До девяти-то еще много времени, успеем. Я уж велел бричку заложить. Поедем через Заболотье, поспеем к поезду-то.
К поезду поспели. Михаил Васильевич затолкал в тамбур все Манины вещички и детишек, расцеловал их напоследок и едва успел соскочить с подножки – поезд уж тронулся. А в тамбуре полно молодых командиров, стоят, курят. Весело подхватили Манины пожитки да деревенские гостинцы, ребятишек тоже, рассовали по полкам. В вагоне шумно, играет гармошка, поют про трех танкистов, трех веселых друзей, про то, что «броня крепка и танки наши быстры» – и вообще очень весело, будто не на войну едут, а на свадьбу. Впрочем, ведь и действительно не на войну – пока еще только до Ленинграда. А война – она где? – о-ё-ёй где! И Маня, которая все эти дни жила в тревоге за Василия, успокоилась. Но напротив сидел дядька, лет, пожалуй, за пятьдесят, небритый, на одной руки всего два пальца, сидел, откинувшись к стенке и бубнил:
– Германец, это вам не финны. Финны и те попервости наложили нам так, что досе чешемся. А германец – я его знаю – он ворог сурьезный, если решил чего, так будет переть и переть. Шуточное ли дело: всю Европу под себя подмял. А вам все хаханьки да хиханьки. Молодые еще – все оттого.
– Ты, батя, от жизни отстал, – втолковывал ему молодой вихрастый командир с черными петлицами на воротнике габардиновой гимнастерки, с серебряными на них танками. – Отсталый ты человек, батя. У нас знаешь сколько танков?
– И сколько же у вас танков? – скривил обросшее лицо свое дядька.
– Сколько у всех других армий, вместе взятых! И даже больше – вот сколько!
– Эка у вас, молодых, голова как неправильно устроена, – качал дядька своей лысеющей головой. – И чему вас только в училищах учат?
– Чему надо, тому и учат, – не уступал молодой вихрастый командир. – Ты вот представь себе, батя, такую картину. Представь! Вот поле, вот твой окоп, а на тебя со скоростью в пятьдесят километров в час несутся танки, к примеру, штук двести. И не просто несутся, а еще стреляют из пушек и пулеметов. А сверху атакует твои позиции авиация. А еще тебя долбит артиллерия. Вот ты представь себя в своем окопе, представь, что ты немец, и что ты будешь делать? А?
– А ты сам-то себя представлял?
– Я-то? Еще как! Нас, когда курсантами были, командир училища несколько раз танками обкатывал, чтоб, значит, прочувствовали, каково оно тому, кто в окопе против тебя сидит. Так что я знаю.
– Ладно, обкатывали, но свои же. Не насмерть, стал быть, а для видимости. А у меня, хоть бы я и немец, по-твоему, что – артиллерии нет? Танков нет? Самолетов тоже нету? И в руках у меня не винтовка, а палка? Так ты себе немца представляешь?
– Да не в этом дело! – горячился командир. – Все у тебя есть! То есть у немца. А вот чего у него нет, так это нашей пролетарской сознательности, нашей коммунистической идейности, нашей уверенности в правоте своего дела, в международную рабочую солидарность.
– Ну, этого, положим, у тебя много, а у него нету. Ладно, согласен. Тогда почему ты ему Минск отдал со своими танками и сознательностью? Почему, спрашивается? А? Молчишь? Вот то-то и оно. А я тебе скажу, почему. Потому что к сознательности надо еще умение, как с этими танками управляться. И чтоб тебе вовремя дали патроны и все прочее. И чтобы накормили вовремя, одели-обули, чтоб ты зубами не клацал от голода. И чтоб твоим танкам керосину налили от пуза. А если этого не будет, то и получится черте что. А то: двести та-анков, двести та-анков! Дураку хоть тыщу дай, а толку никакого.
– Значит, ты, батя, нас за дураков считаешь?
– А за кого же вас считать? За умных, что ли? Они, вишь ты, едут на войну, а в голове сплошной ветер. Приедем, мол, так надаем немцу по сопатке, что только держись. А у тебя, промежду прочим, в подчинении будет такой же вот, наподобие меня, дядька, или мальчишка с-под Рязани, которые танка в глаза не видали. И сколько ты на него ни кричи, револьвером ни размахивай, а он, когда увидит танки, побежит. Или руки вверх подымет… И ты на меня глазьми своими не зыркай! – повысил голос дядька. – Я тебе не немецкий шпиён и не этот, как его, провокатор. Я всю германскую прошел, потом гражданскую, и танки тоже видел, и газами меня травили, а только если ты мною будешь плохо командовать, то и толку никакого не будет. С таким командованием, чего доброго, немец и до Москвы доберется. И до Питера. А ты – танки! танки! Видел я твои танки. Сам их делаю. Ничего танки. А только, скажу я тебе, человек главнее танка. И пока германец нас бьет, значит, он умнее тебя. Вот это ты и заруби себе на носу. А вот почему он оказался умнее, ты над этим и задумайся, если такой ученый. И пока ты сам не поумнеешь, ничего из твоих танков не получится.
И дядька, сердито сопя, стал скручивать из газеты «козью ножку». Затем встал и пошел по вагону к тамбуру. И командиры, которые слушали этот спор, тоже разошлись, уже без всякого веселья.
Тут же и гармошка затихла.
И Марию опять охватила тоска по Василию: где он? что с ним? Ведь те места, где он отдыхал в санатории, сказывали, уж под немцем.
В Питер приехали утром. Те же военные посадили Марию с детьми на извозчика, и он повез их домой. По дороге встречались разбитые и сгоревшие дома, на стенах некоторых из них черными буквами было написано: «Вход в бомбоубежище». И черная же стрелка показывала куда-то вниз. По улицам маршировали колонны солдат и гражданских с ружьями, катили машины с пушками, на перекрестках, пропуская трамвай, рычали танки, окутываясь синими дымами. Кое-где виднелись пушки с длинными стволами, а возле них солдаты в железных касках. Народу в городе стало вроде бы побольше, особенно женщин, и все они куда-то спешили, опасливо поглядывая на серое небо.
Дома Васи еще не было. Он появился лишь на второй день.