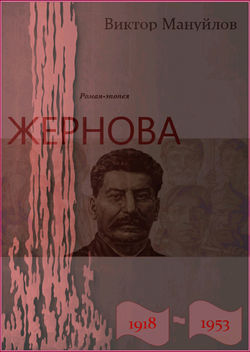Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана - Виктор Мануйлов - Страница 26
Часть 43
Глава 26
ОглавлениеИдти в гости вот так, в поношенном и затертом костюмчике, купленном на толкучке, Дитерикс отказался наотрез. Он только заскочит на минутку домой, переоденется и тогда пожалуйста.
Втроем они свернули к этээровским домам. Четыре двухэтажных дома из силикатного кирпича, построенные недавно, стояли несколько на отшибе, окруженные развалинами других домов и пустырями, заросшими пыльной лебедой и полынью. Чуть дальше громоздились мрачные останки школы имени Героя Советского Союза летчика Леваневского, далее – пялился во все стороны черными глазницами окон дворец культуры, еще дальше, на взгорке – универмаг, всё – одни стены, изуродованные и обгоревшие. А между универмагом и дворцом еще несколько серых двухэтажек, в которых еще живут интернированные немцы, в основном молодежь, занимающаяся разборкой развалин и строительством.
Дитерикс затащил Олесича и Малышева в свою квартиру на втором этаже, но дальше крошечной прихожей гости не пошли и, пока хозяин переодевался, переминались с ноги на ногу и оглядывались.
– Да-а, обстановочка не очень, – заметил Малышев, трогая рукой самодельную вешалку.
– А зачем ему? – удивился Олесич. – Поработает еще с годок и – в свой фатерлянд. А там все есть: американцы понавезли.
– Чего это он вдруг к американцам попрется? – нахмурился Малышев. – Он, если вернется, то в Восточную.
– Оно, конечно, так, – заюлил Олесич, – а только рыба, как говорится, ищет где глубже, а человек, где лучше. Это мы живем по идейным соображениям, а он – немец, у него другие понятия.
– Ну и что, что немец? Маркс тоже был немцем…
– Маркс-то? Маркс был евреем. Об этом еще Ленин говорил, – не моргнув глазом, поправил Олесич. – А только это когда было – Маркс-то! Они, поди, про него давно уж позабыли. Их, немцев-то, Гитлер с Геббельсом так распропагандировали, что просто жуть. А нам теперь надо наоборот: поставить их обратно на идейный уровень. Вот я про что толкую. В Германии, скажем, мы тоже этим делом занимаемся, – понизил голос Олесич. – По части пролетарской сознательности и интернационализма. Ты, кстати, в каких войсках служил?
– В саперных, – ответил Малышев, все еще с трудом переваривая сказанное Олесичем.
– Понятное дело: саперы – они как бы на задней линии, а пехота всегда впереди, под знаменем, поэтому ей приходится разбираться, кто, значит, враг, а кто ни то ни се – гражданский одурманенный человек.
Олесич говорил теперь не спеша, с достоинством много повидавшего и повоевавшего человека, знающего себе цену, но Малышев слушал его с недоверием, будто этот человек приписывает себе то, что принадлежит другому.
Вообще говоря, Олесич Малышеву не нравился. Он не мог сказать с определенностью, почему не нравился, но едва он его увидел, как тут же и определил для себя, что от этого человека надо держаться подальше. Вот уж полгода Малышев работает в цехе, за это время сталкивался с мастером литейки практически ежедневно, потому что все требовало ремонта и, следовательно, его, Малышева, рук, и никакая кошка между ними не пробегала, но смутное ощущение опасности, исходящей от этого человека с бегающими глазами, чем дальше, тем усиливалось все более. Правда, когда он пытался узнать у других работяг, что это за человек, сменный мастер Олесич, они лишь пожимали плечами и оглядывались.
– Черт его знает! – удивившись вопросу, бормотнул напарник Малышева старый рабочий Егор Коптев и, проводив взглядом проходившего мимо Олесича, долго молчал, морща лоб и передергивая плечами, словно спорил сам с собой, обсуждая неожиданно возникший вопрос, но так ни к чему и не придя, поинтересовался, сощурив блеклые глаза:
– А ты чего интересуешься? По партийной линии или как?
– Странный он какой-то, – неопределенно ответил Малышев.
– Так ведь штрафник – известное дело. Там, в штрафбате или в штрафроте, все такие, – с убежденностью заключил Коптев, хотя сам не воевал, а всю войну проработал в эвакуации на Урале, по броне.
Впрочем, для Малышева и этого было достаточно: о штрафниках он судил по одному из солдат саперной роты по фамилии Посудников. Этот Посудников, встретив в одном из немецких городков, только что взятом нашими войсками, русскую девчонку лет шестнадцати, угнанную в Германию еще в сорок первом, заманил ее в подвал, полагая, что имеет на нее полные права, а она давай кусаться и царапаться, хотя, как он потом оправдывался, с немцами, небось, не брыкалась.
Так и не добившись у нее согласия, Посудников взял ее и застрелил.
Вся рота тогда очень возмутилась и чуть не устроила над ним самосуд, да начальство помешало. И Посудников загремел в штрафную роту. С тех пор при упоминании о штрафниках Малышев видел перед собой этого самого Посудникова, его отвратительную после того случая рожу, и ничего кроме презрения к штрафникам не испытывал. Так что и на Олесича, за что бы он ни попал в штрафбат, легла тень Посудникова.
Но этого явно было мало, чтобы понять, почему Олесич не понравился ему с первого взгляда. И Малышев решил, что Олесич – тот еще фрукт, а штрафбат – всего лишь закономерный эпизод в его биографии. Поэтому Малышев без восторга встретил приглашение мастера на швартен и шнапс. А с другой стороны, оно, может, и к лучшему: поближе присмотреться, разобраться, насколько он отвечает первому впечатлению.
Михаил Малышев был человеком обстоятельным и любил докапываться до сути в любом деле, и если представилась возможность докопаться до сути мастера Олесича, то надо эту возможность использовать. Но главное, конечно, Дитерикс – не бросать же его одного. Тем более что с некоторых пор Малышев чувствовал себя ответственным за немца, видя его одиночество, враждебность и непонимание со стороны многих рабочих и даже некоторого начальства. Стоило только поставить себя на место Дитерикса, чтобы понять, как ему трудно и одиноко в чужой стране. Вот сам Малышев не додумался пригласить немца к себе домой, а мастер Олесич додумался, хотя какое ему вроде бы до немца дело.
А еще Михаил Малышев должен взять у Дитерикса все, что тот знает и умеет, и попрактиковаться в немецком языке. Потому что с осени Михаил собирался пойти в вечернюю школу, в седьмой класс, а потом, после школы – в институт. Быть может, когда он станет инженером, его направят в Германию на стажировку. У немцев есть чему поучиться, хотя отовсюду только и слышно, что у нас, в СССР, самая передовая техника и технология в мире. Никто не спорит, но только в том смысле, рассуждал Малышев, что она передовая по своей идейной направленности, передовая в том смысле, что служит непосредственно трудящемуся человеку и всемирному коммунизму, а что касается ее чисто практической стороны, то тут до немцев нам еще топать и топать.
В Германии Малышев побывал на многих немецких заводах и посмотрел, что там и как, потому что их саперный батальон участвовал в демонтаже оборудования и отправке его в Союз. Увозили даже самое что ни есть старье. Но немецкое старье – это тебе не наше старье. Взять хотя бы их расточные станки. Выпущены в начале двадцатых, а смотрятся и работают, как новенькие, точность и все параметры держат тик в тик. Конечно, и у нас тоже кое-что имеется, но все-таки не то: вроде как тут золотник, да там золотник среди кучи дерьма поблескивает, а у немцев все ровненько, все работает в одной упряжке и все блестит, даже если старое. Впрочем, это вполне объяснимо: Советский Союз все должен был делать для себя сам, а тем же немцам помогали империалисты всего мира, чтобы потом натравить их на страну социализма. Так, по крайней мере, объяснял это положение замполит их саперного батальона. И не верить ему у Малышева не было оснований, потому что на немецких заводах встречались и английские станки, и швейцарские, и французские, и американские.
Еще Михаил верил, что теперь, когда закончилась война, жизнь постепенно наладится, станут и у нас делать хорошие станки, появится и передовая технология, и не только в отдельных местах, но и во всей промышленности. Иначе просто не может быть. Но взгляды свои Малышев придерживал при себе: скажи кому-нибудь, сочтут маловером, поклонником Запада и этим, как его? – космополитом, а тогда не только институт, школу закончить не мечтай.
Вышел Дитерикс в новом темно-синем бостоновом костюме и при новом, синем же, галстуке. И башмаки тоже новые, сияют как кусок антрацита. Так, с таким шиком, одеться могут немногие: директор завода генерал Охлопков, парторг ЦК Горилый… ну, еще человек пять-шесть из самого большого начальства, кто такие костюмы получает по специальным талонам прямо на центральной базе. Дитерикс свой костюм тоже получил по талону: единственный немец на всю округу должен выглядеть прилично, потому что это уже момент сугубо политический. Так ему объяснили в парткоме, когда Дитерикс попытался от талона отказаться. Костюм этот он надевает всего второй раз. А первый раз – на Первое Мая.
Франц Дитерикс настолько выглядел нарядным по сравнению со своими товарищами, что тут же сам это заметил и смутился, не зная, что теперь делать. Действительно, на Малышеве были потертые, заштопанные во многих местах штаны, сшитые то ли из брезента, то ли из мешковины, на ногах белые тапочки на босу ногу, плотную, мускулистую фигуру облегает вылинявшая сатиновая безрукавка; на Олесиче разве что штаны поновее да на ногах кожаные сандалии, и тоже на босу ногу.
– Зд’орово! – воскликнул Малышев, разглядывая Дитерикса. – Тебя, Франц, теперь можно женить. А что: женим, обрусеешь, станешь советским немцем. В газетах про тебя напишут, что вот, мол, перековался, принял самую передовую в мире идею. А? – И Малышев засмеялся, поглядывая на Олесича, который тоже смотрел на Дитерикса восхищенными глазами и мелко похихикивал.
В Малышеве вдруг проснулся чертенок, которому очень хотелось пошалить и подразнить как Олесича, так и Франца Дитерикса. Особенно Олесича, который после рассказанного анекдота напомнил ему особиста из их саперного батальона, тоже любителя анекдотов, над которыми, однако, почему-то не очень хотелось смеяться.
– Как ты смотришь, Аверьяныч? – пошел Малышев уже на ты с Олесичем. – Примем Франца в партию, в Красный крест, в ДОСААФ и всякие другие общества? Бывший сосал домкрат[21] порывает со своей гнилой идеологией и становится завзятым большевиком! Сенсацион на весь… это… как там… коллективвиртшафтион![22] Ха-ха-ха!
Дитерикс, мало что понимая в болтовне Малышева, некоторое время хлопал глазами, догадался наконец, что его костюм не вызывает у его приятелей никаких недружелюбных чувств, при последних словах Малышева тоже расхохотался, запрокинув голову, хлопая себя руками по бедрам. Осторожно, с оглядкой, похихикивал и Олесич.
А Малышева несло:
– Нормально, Франц! Форверст нах майстеркотедже![23] Нехай наши голодранци побачут, яке свитло та ще гарне будущее их ожидает: бостоновый костюмчик и все такое прочее! Форверст, герр Олесич! Эс лебе дайне швайне![24] И упокой ее свинячью душу! – кривлялся Малышев. – Пролетари аллер лэндер, ферайнигт ойх! Рихтиг, Франц?[25]
– О-о, да! Правьильна! Рихтиг! Ты, Микаэл, есть большой фильшпрехлер! Ха-ха-ха! Большой есть полиглот! Коллективвиртшафтион! Ха-ха-ха!
Хохоча они вышли из дитериксовой квартиры, спустились по лестнице и пошли по улице.
Только что закончился футбольный матч, народ растекался со стадиона по домам, возбужденный игрой, пивом и водкой. Слышался смех, громкий говор, мат. Среди заношенных, латанных-перелатанных брюк и рубах Дитерикс в своем шикарном костюме выглядел нарядным селезнем среди серых уток.
Впрочем, вечер был субботний, предвыходной, и если на немца и поглядывали, то без зависти и осуждения.
21
Сосал домкрат (презрит.) – социал-демократ.
22
Коллективвиртшафт(ион) – колхоз; Малышев пристроил окончание (ион) для рифмы.
23
Форверст нах майстеркоттедже! – Вперед к дому мастера!
24
Ес лебе дайне швайне! – Да здравствует твоя свинья!
25
Пролетари аллер лэндер, ферайнигт ойх! Рихтиг, Франц? – Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Правильно, Франц?