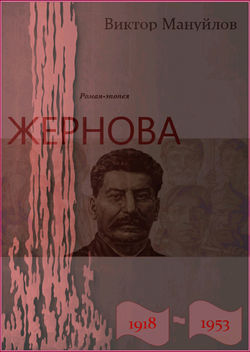Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана - Виктор Мануйлов - Страница 27
Часть 43
Глава 27
ОглавлениеОлесич жил в поселке под названием Шанхайка. За годы своего беспризорничества и бродяжничества он повидал много всяких «шанхаек», бог весть почему получивших свое название. Скорее всего оттого, что нищие, грязные и окраинные, а еще, может, от многолюдства, – никто не знает.
Шанхайка, в которой жил Олесич, возникла сразу же после изгнания немцев из Донбасса и возвращения на пепелище эвакуированных. Позже, после победы, потянулись домой уцелевшие солдаты и многие из них начали укореняться между оврагами Шанхайки. Крыша над головой нужна была немедленно, на государство рассчитывать не приходилось, строиться на месте развалин старого заводского поселка власти не разрешили, да, к тому же, там уже ковырялись пленные и интернированные немцы, возводя дома для итээровцев и всякого служивого люда. Шанхайка была удобна еще и тем, что глина под ногами, наворовал в поле соломы, или накосил на берегах ставков камыша или осота и знай себе меси саманные кирпичи, суши их на горячем солнце да клади из них стены. Стены положил, пол тоже саманный, а крыша и все остальное как-нибудь приложатся: что-то дадут на заводе через профсоюз, что-то удастся стянуть на станции или купить у жуликоватых заводских снабженцев. Цены, конечно, несусветные, да деваться-то некуда.
С водой на Шанхайке поначалу было плохо, но к осени власти протянули туда водопровод и поставили на перекрестках зарождающихся улиц водоразборные колонки. Потом провели электричество, повесили на столбах мощные репродукторы, которые будили шанхайцев в шесть утра гимном Советского Союза и утренней гимнастикой и затыкались только в двенадцать часов ночи – тоже после гимна.
Морщинистый хребет древнего увала, прокаленный солнцем и продуваемый ветрами, протянулся на сотни километров с северо-запада на юго-восток, как бы поделив степь на верхнюю и нижнюю, на холмистую, изрытую древним ледником, и ровную, с заросшими камышом ставками, кудлатыми ивами, свечовыми тополями. Здесь, в Верхней степи, лежали клочки огородов заводской голи; напротив, далеко внизу, за линией заводов, среди ив и тополей белели дачи начальства, выстроенные под линейку щитовые домики пионерлагерей.
Летом сорок шестого на Шанхайке построился и Олесич. После демобилизации, едва он в числе многих очутился в Бресте, сманил его вербовщик на восстановление Донбасса. Заработки обещал, помощь в строительстве жилья, даже жену, потому что баб там – каких хочешь, и все без мужиков. Заработки оказались плевыми, не больше, чем везде, о жилье надо было заботиться самому. Правда, койку в общежитии дали. И на том спасибо.
Но Олесич на обман не сетовал: всю жизнь его обманывали и надували самым бессовестным образом, и он полагал, что без этого никакая жизнь невозможна. Пока воевал, обманывали вроде меньше, но там совсем другое дело: приказали – и пошел, а останешься в живых или погибнешь на первом же шагу, никого не волновало. Потому что война. А на войне кому как повезет. Ему везло: отступал, попадал под бомбежки, был ранен, но не шибко, месяц повалялся в госпитале, затем принял под свое командование роту московских ополченцев и в конце октября сорок первого попал в окружение восточнее Ржева прорвавшимися откуда-то немецкими танками. Его и бойцов его роты танки и мотопехота отрезали от батальона, выбили из окопов и погнали по полю, давя и расстреливая, как зайцев. Страху он тогда натерпелся – не приведи господи. Забившись в густые кусты, он переждал, пока вокруг все не затихнет, а едва вылез, нарвался на мотоциклистов и поднял руки. После всего пережитого и лагерь поначалу не показался ему таким уж отчаянным местом.
С пленом Олесичу, можно сказать, повезло тоже: в лагере продержали около месяца, потом повезли на запад, выгрузили в каком-то белорусском городишке, отобрали здоровых, заставили рыть канавы, строить бараки, а потом неожиданно отдали в работники на пивной заводик в село Загорье. Там бы он и проторчал всю войну, если бы не бунт, устроенный пленными по поводу плохой кормежки. Хозяин вызвал полицаев, и те всех пленных, не разбирая, участвовал в бунте или нет, высекли на площади и отправили в Карпаты. А там – в каменоломни.
Олесичу, однако, повезло снова: вскоре определили его в бригаду по ремонту железных дорог. Однажды – уже летом сорок четвертого – через те места, где работал Олесич, прошла целая партизанская армия. Охрана разбежалась, пленные тоже. Часть ушла с партизанами, остальные кто куда. Олесич и еще несколько человек, боясь и своих и немцев, подались в горы, прятались там в пустых кошарах, потом, оголодав, спустились в какое-то село, где была своя, самостийная, власть, которая, не зная, что с бывшими пленными делать, раздала их по дворам: всем видно было, что немцы войну проиграли, что советы вернутся не сегодня, так завтра, и лучше лишний грех на свою душу не брать. В этом селе Олесич чуть не женился, да пришли наши и загребли его – на этот раз в свой лагерь. А из лагеря – в штрафбат, то есть в штурмовой батальон, что, собственно, одно и то же.
Конечно, война помытарила его здорово, но все-таки он остался жив. Не всем так повезло, как ему, не все дожили до победы.
Попав в Константиновку, Олесич довольно быстро обзавелся женой и хозяйством. Приглянулась повариха в заводской столовке, девка грудастая, кровь с молоком, хотя и не красавица. Так ведь с лица воду не пить…
Встретил как-то ее вечером, проводил до общежития. Парень языкастый, заговорить девку – раз плюнуть. А свободных баб (тут вербовщик нисколько не соврал) хоть пруд пруди, к какой не подойди – не откажет.
На другой день приходит Олесич в столовку, берет свои законные борщ, гуляш и компот, а в борще мяса – с кулак, гуляша – втрое больше нормы. Выводы из этого факта разве что дурак не сделает.
В тот же вечер повел Олесич Верку, повариху то есть, в парк. На лавочке потискал немного – и в кусты. Побрыкалась Верка для приличия, пока он трусы с нее стаскивал, а как стащил, так и успокоилась. Провожая Верку в женское общежитие, Олесич прямо ей так и сказал: чего, мол, по кустам-то хорониться, не лучше ли на законном основании? Верка помялась-помялась – опять же для приличия – и согласилась. На другой день пошли в Загс и расписались. А еще через несколько дней приглядели себе место на краю оврага и стали готовить яму под замес.
Верка оказалась бабой злой до работы и гнездо свое, о котором мечтала всю жизнь, принялась устраивать с исступлением. Себя не жалела и Олесича погоняла шибче всякого ротного старшины. Впрочем, Олесич, когда на глазах начали расти стены, шершавые и колючие от рубленой соломы, как тот небритый подбородок, тоже почувствовал вкус к собственности и пахал не разгибаясь.
Худо-бедно, а мазанку себе в три крохотные комнатенки и кухоньку сварганили быстро, крышу накрыли толем, двери, маленькие окошки выкрасили голубой краской – все как у людей. И пол земляной, мазаный – тоже как у всех. И остальное: железная кровать, ватный жиденький матрасик, лоскутное одеяло… Зато подушки были на гусином пуху, набранном Веркой по крохам в своей столовке. На такую подушку голову положишь – голова так и тает в этакой благодати. За всю свою жизнь Олесич не спал на таких подушках. В Германии раз пришлось у одной фрау, так и то не такие.
Что до мебели, так Олесич сколотил ее сам из «цельнотянутых», то есть ворованных, досок, оставшихся от строительства дома. Впрочем, и все дерево было «цельнотянутым»: и доски на двери и рамы, и кругляк на каркас и стропила.
Деревом промышляли на станции, объединяясь несколькими дворами. Операцию разрабатывали так, как иной маршал не разрабатывал фронтовую. Все мужики прошли огонь и воду, не говоря уже о медных трубах, иные и по немецким тылам шастали, так что не впервой. Можно было, конечно, и попасться, и некоторые таки попадались, дальше – суд, срок не менее десяти лет и Колыма. Но это, как и на фронте, дело случая, потому что всего не предусмотришь. Нарывались в основном на облавы, но поскольку облавы устраивались не часто, да если все хорошенько разнюхать, да полученные данные в мозгах переварить, то облава не так уж и страшна. Как бы там ни было, Олесичу везло: сколько раз ходил за досками и кругляком, наваливал на себя – аж жилы трещали, но все до последней досочки приволок домой и ни разу даже шума наималейшего не возникало.
Верка тоже, как и другие шанхайские бабы, помогала, оттаскивая доски и кругляк на пустырь, подальше от станции, пока мужики вагоны шерстили. Ну, а что попадало на огороженный железом участок – железа кругом было полно всякого, – там и оставалось, потому что на Шанхайку милиция не совалась…
В ту же осень посадил Олесич вишни, яблони, абрикосы, вскопал с Веркой огород, и уже на другой год на столе овощ был свой, а это к пайку да к тому, что Верка иногда приносила из столовки, приклад был решительный. Потом завели кабанчика, откармливали его на столовских же помоях. Кабанчик вымахал будь здоров какой, и Олесич непременно додержал бы его до холодов, однако тут разразилась вдруг эпидемия краж домашней живности: не иначе как в ожидании голодной зимы, а они с Веркой все больше на работе, дома никого, и Олесич взял его да и прирезал – из опасения потерять так трудно доставшегося им кабанчика. Как раз три дня тому назад.
Впрочем, не потому он решил пригласить к себе немца и Малышева, что страдал избытком съестного и сознанием пролетарского интернационализма. Вовсе нет. К этому времени другая статья вышла.