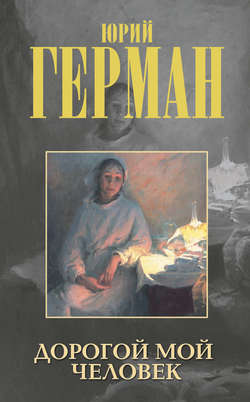Читать книгу Дорогой мой человек - Юрий Герман - Страница 2
Глава первая
Мелкие неприятности, встречи и воспоминания
ОглавлениеПолуторку сильно тряхнуло на ухабе, водитель скосил на Устименку злые глаза и посоветовал:
– Сиди плотнее, пассажир. Дорога нынче военная, раньше времени можешь получить неприятности.
Какие неприятности? Он все время говорил загадками – этот плотно сбитый, плечистый парень в потертой кожанке.
Борисово осталось позади. Навстречу медленной и невеселой вереницей тянулись грузовые машины – в них везли станки, усталых, суровых людей в ватниках и плащах, в перепоясанных ремнями штатских пальто, дремлющих ребятишек, испуганных старух и стариков. А Глинищи уже пылали от самого моста вверх до знаменитого по всему краю совхоза «Красногвардеец». И никто не тушил пламя, даже народу не было видно в этом большом, всегда шумном селе. Только за переездом бабы и девки рыли окопы, да бойцы в пропотевших гимнастерках сваливали с грузовиков какие-то серые пирамидки и, подрычаживая их ломами, сдвигали к обочинам дороги.
– Это что же такое? – спросил Устименко.
– А он не знает! – не скрывая злобы, огрызнулся шофер. – Он впервой видит. Не придуривайся, пассажир, убедительно попрошу. Надолбы он не знает, ежи – не знает. Может, ты и окопы не знаешь? А что война – ты знаешь? Или не слышал? Так называемая коричневая чума на нас высыпалась. Но только мы этих всех бандитов передавим, так там и передайте!
– Где там? – недоуменно спросил Володя.
– А в вашей загранице, откуда прибыли.
Устименко растерянно усмехнулся: черт его дернул рассказать этому бдительному чудаку о том, как он извелся за последние двое суток со своим заграничным паспортом. И свитер оказался у него подозрительным, и покрой плаща не тот, и подстрижен он не по-нашему, и сигареты у него заграничные.
– Конечно, ввиду пакта о ненападении мы не отмобилизовались с ходу, – назидательно сказал шофер, – но будьте покойнички – здесь фашисту-фрицу все едино конец придет. Дальше Унчи не проскочите!
– Я вам в морду дам! – внезапно, ужасно оскорбившись, крикнул Устименко. – Ты у меня узнаешь…
Левой рукой шофер показал Володе тяжелый гаечный ключ – оказывается, он давно уже вооружился, этот парень.
– Готовность один, – сказал он, без нужды вертя баранку. – Сиди, пассажир, аккуратно, пока черепушку не проломал…
– Глупо! – пожал плечами Володя.
Действительно, получилось глупо. Вроде истории со «старым Питом» – там, в экспрессе.
– Где надо разберутся – глупо или не глупо, – подумав, произнес шофер. – Так что сиди, пассажир, и не вякай, не играй на нервах…
Над городом, низко и плотно, висел дым. Так плотно, что не было даже видно заводских труб – ни «Красного пролетария», ни кирпичного, ни цементного, ни «Марксиста». И купола собора тоже закрывал дым.
На въезде, где был КПП, шофер предъявил свой пропуск, а про Володю выразился уже совершенно категорически:
– Шпион-диверсант. Освободите меня от него, дружки, у него небось любое оружие, а у меня гаечный ключ. И показания с меня снимите быстренько, мне в военкомат в четырнадцать ноль-ноль.
Молоденький, крайне озабоченный свалившимся на него чрезвычайным происшествием военный с двумя кубиками долго читал Володин заграничный паспорт, просматривал штампы – въездные и всякие прочие визы, – ничего не понял и осведомился:
– С какой же целью вы сюда направляетесь?
– А с такой, что я здесь родился, кончил школу, медицинский институт и был приписан к Унчанскому районному военкомату. Я – врач, понятно вам? И военнообязанный…
Из-за фанерной перегородки доносился возбужденный голос шофера:
– С десантом сброшенный, картина ясная. Вы только обратите пристальное внимание на его подстрижку. Шея нисколько не подбритая. Опять же запах – если принюхаться. Какой это одеколон?
– Послушайте, – уже улыбаясь, сказал Устименко. – Ну, если допустить, что я диверсант, то зачем же мне заграничный паспорт? Неужели фашисты такие дураки…
– А вы здесь за фашистов агитацию не разводите, что они умные! – рассердился военный. – Тоже нашелся…
Он все листал и листал Володин паспорт. Потом спросил быстро, сверля при этом Володю мальчишескими глазами:
– Фамилия?
– Устименко! – так же быстро ответил Володя.
– Где проживали? Какие улицы знаете в городе? Какие знакомства имели? Какой институт кончили?
Милый мальчик, каким изумительным и вездесущим следователем он себе казался в эти минуты, и как похож он вдруг сделался на доктора Васю – этот курносый юноша с кубиками, с вспотевшими от волнения красными щеками, возбужденный поимкой настоящего, матерого, хитрого и коварного шпиона.
– И еще имеет нахальство спрашивать, почему Глинищи горят, – доносилось из-за стенки. – Он, куколка, не знает…
Неизвестно, сколько бы это могло еще продолжаться, не войди в комнату, где опрашивали Володю, школьный его учитель, сердитый физик Егор Адамович. Только теперь это был не пожилой человек в пиджачке, а настоящий, форменный, кадровый военный в хорошо пригнанной гимнастерке, с портупеей через плечо, с пистолетом в кобуре на боку.
– Здравствуйте, Устименко! – как будто и не промчались все эти длинные годы, совершенно тем же школьным суховатым и спокойным голосом сказал он. – Это вы матерый шпион?
– Я, – поднявшись по школьной привычке и чувствуя себя опять школьником, ответил Володя. – У меня, видите ли, заграничный паспорт…
Совершенно тем же жестом, которым когда-то брал письменную по физике, Адам взял паспорт, полистал его и протянул Володе.
– Черт знает как время скачет. А я, между прочим, не думал, что из вас получится доктор.
– Я не доктор, я врач, – почему-то радуясь, что у Адама такой бравый вид, ответил Володя. – А я не думал, что вы военный…
Адам улыбнулся и вздохнул:
– Ничего мы никогда толком друг о друге не знаем, – сказал он тем самым голосом, которым объяснял большие и малые калории. – Бегаешь-бегаешь, а потом вдруг мальчишка из-за границы возвращается бывалым человеком…
Обняв Володю за плечи, он вышел с ним из низкого барака, в котором Устименку только что принимали за матерого шпиона, велел вызвать бдительного шофера и, покуда тот с недовольным видом прятал под сиденье свой гаечный ключ и заводил машину ручкой, с несвойственной мягкостью в голосе сказал:
– Теперь прощайте, Устименко. Война будет не короткая – вряд ли мы увидимся. Мне жаль, что вы плохо занимались по физике, я недурной учитель, и те начатки, которые мы даем в школе, впоследствии очень бы вам пригодились. Вообще зря вы так свысока относились к школе.
– Я знаю! – с твердой радостью в голосе ответил Володя. – Я теперь все отлично понял, только поздновато. И с языками. Вы не можете себе представить, как я мучился там с английским. Ночами, без преподавателя…
– Ну, хорошо, хорошо, – перебил Адам, – прекрасно. Все мы в юности гении, а потом просто работники. И не так уж это плохо. Прощайте!
Володя опять сел рядом с шофером и захлопнул металлическую дверцу кабины. Красноармеец в пилотке поднял шлагбаум. Шофер спросил миролюбиво:
– Курить есть?
– Шпионские, – ответил Володя.
– А ты не лезь в бутылку, браток, – примирительно попросил шофер. – Ты войди в мое положение. Подстрижка у тебя…
– Ну, завел…
– Ты перестригись, – посоветовал шофер, – у нас мальчишки за этим делом здорово следят. И плащик свой закинь – хотя и фасонный, а не жалей…
Устименко не слушал: навстречу шли танки. Их было немного, они тащились медленно, и по их виду Володя понял, из какого ада они вырвались. Один все время закидывало вправо, он был покрыт странной коркой – словно обожжен. На другом была разодрана броня, третий не мог двигаться, его тащил тягач.
– Хлебнули дружки горя, – сказал шофер. – Вот и моя такая специальность.
– Танкист?
– Ага. Сейчас полуторочку свою сдам, ложку-кружку – и «прощайте, девочки-подружки!».
– Вы меня к памятнику Радищева подкиньте, – попросил Володя. – По дороге?
– Порядок!
Когда шофер тормознул, Володю вдруг пробрала дрожь: жива ли в этих бомбежках тетка Аглая, существует ли дом, который казался ему когда-то таким большим?
Дом существовал, и рябина росла под окошком, под тем самым, возле которого он в тот ветреный день поцеловал Варвару. Неужели это правда было?
– Ты должен объясниться мне в любви! – строго велела ему Варвара. – И ты не плох, ты даже хорош – в свободное время.
И вот нет Варвары.
Заперты двери, обвалилась штукатурка лестничной клетки, треснула стена, наверное от бомбежки, качается на ветру за оконной рамой без стекол рябина. Здравствуй, рябина! Было что-нибудь или не было ничего, кроме воя сирен и пальбы зениток?
Он постучал в соседнюю – седьмую – квартиру. Здесь про тетку Аглаю ничего не знали. Кто-то ее видел как-то, а когда – никто толком не мог сказать. И даже в переднюю Володю не впустили: они вообще тут недавно, ни с кем не знакомы…
Со щемящей тоской в сердце он еще раз обошел дом, потрогал ладонью гладкий и живой ствол рябины, вздохнул и пошел прочь. На Базарной площади застала его жестокая бомбежка, «юнкерсы» пикировали с воем, вероятно по ошибке приняв старый приречный рынок за какой-то военный объект. Или собор был у них ориентиром? Потный, в пыли и в известке, Володя наконец добрался до военкомата на Приреченской, но тут почему-то все было заперто. Бомбардировщики ушли, над городом опять навис дым, летела сажа. Зенитки тоже затихли. Ремни рюкзака резали плечи. Володя немного посидел на каких-то ступеньках, потом сообразил, что именно здесь, в этом дворе, во флигеле жил когда-то Пров Яковлевич Полунин. И нестерпимо вдруг захотелось ему увидеть этот флигель, войти в полунинский кабинет, может быть, посмотреть на старый желтый эриксоновский телефон, по которому он в ту ночь вызвал Варин номер: шесть тридцать семь…
Волоча рюкзак, тяжело ступая, он остановился возле флигеля и спросил вежливо под открытым окном:
– Скажите, пожалуйста, семья Прова Яковлевича здесь проживает?
В окне тотчас же появилась женщина – еще не старая, крупная, прищурившись, оглядела Володю и осведомилась:
– А вам, собственно, что нужно?
– Да ничего особенного, – несколько смешавшись от звука этого знакомого, насмешливого и властного голоса, произнес Володя. – Я, видите ли, был учеником Прова Яковлевича – вернее, я теперь его выученик, и мне захотелось…
– Так войдите! – велела женщина.
Он вошел несмело, обтер ноги о половичок и сказал, сам удивляясь своей памяти:
– Я никогда вас не видел, но хорошо помню, как вы когда-то из другой комнаты объясняли, где чай и мармелад, и как вы пожаловались Прову Яковлевичу, что двадцать два года женаты, а он вам спать не дает…
Вдова Полунина на мгновение закрыла глаза, лицо ее словно застыло, но вдруг, тряхнув головой и словно бы отогнав от себя то, о чем напомнил ей Володя, она живо и приветливо улыбнулась и, пожав руку, втянула его через порог в ту самую комнату, где по-прежнему на стеллажах видны были корешки огромной полунинской библиотеки и где возле полунинского письменного стола тогда Володя слушал о знаменитой картотеке. Ничего здесь не изменилось, и даже запах сохранился тот же – пахло книгами, больницей и тем крепчайшим табаком, которым Пров Яковлевич набивал себе папиросные гильзы.
– Садитесь! – сказала вдова Полунина. – Вид у вас измученный. Хотите, я кофе сварю? И давайте познакомимся – меня зовут Елена Николаевна. А вас?
– Я – Устименко.
– Без имени и отчества?
– Владимир Афанасьевич, – краснея, произнес Володя. – Только Пров Яковлевич меня никогда так не называл.
Она, улыбаясь, смотрела на него. Глаза у нее были большие, светлые и словно бы даже мерцающие, и свет этот, когда Елена Николаевна улыбалась, так красил ее бледное, большеротое лицо, что она казалась сказочной красавицей. Но стоило ей задуматься или сдвинуть к переносью тонкие брови, как делалась она не только некрасивой, но чем-то даже неприятной, жесткой и сурово-насмешливой.
«Она не одна – их две, – быстро подумал Устименко. – И влюбился он в Елену Николаевну, когда она улыбнулась, а потом уже некуда было деваться».
От этой мысли ему стало жутковато, как будто он узнал тщательно оберегаемую тайну мертвого Полунина, и Володя, обругав себя, отогнал все это прочь.
Кофе Елена Николаевна принесла тотчас же, словно он был к Володиному приходу сварен, и Устименко с наслаждением, залпом, обжигаясь, выпил большую чашку и тотчас же попросил еще.
– А ведь я знаю, зачем вы пришли нынче, – вглядываясь в Володю, сказала Елена Николаевна. – Да еще, что называется, на ходу, с рюкзаком.
– Зачем? – удивился Устименко.
– А вы признаться не хотите?
– Я, по-честному, не понимаю, – искренне и немножко даже громче, чем следовало, произнес Володя. – Я случайно, после бомбежки…
– И вы не знаете, что Пров Яковлевич про всех своих студентов кое-что записывал? Неизвестно вам это? И не потому вы пришли?
– Не потому! – уже воскликнул Володя. – Честное вам даю слово, ничего я этого не знаю…
– Не знаете и знать не хотите? – с быстрой и неприязненной улыбкой, ставя свою чашку на поднос, осведомилась Елена Николаевна. – Так, что ли?
– Нет, я бы знать хотел, конечно, – заставив себя держаться «в рамочках», сказал Устименко. – Но это все, разумеется, пустяки. У меня только к вам вот какой вопрос: неужели вся картотека Прова Яковлевича так и осталась здесь безработной, если так можно выразиться? Неужели никто ею не интересовался? Я немножко знаю систему подбора материала Полуниным и не могу понять, как случилось, что все так на прежних местах и сохранено. Может быть, вы не пожелали это отдать в другие руки?
– В какие? – холодно спросила Елена Николаевна. – Здесь у нас одни только руки есть – профессора Жовтяка. Он интересовался, смотрел, и внимательно. Долго смотрел, «изучал» даже, как он сам выразился. И отнесся к архиву и к картотеке отрицательно. Настолько отрицательно, что, по дошедшим до меня слухам, где-то в ответственной инстанции сделал заявление в том смысле, что, знай он раньше, как проводил свои «досуги» профессор Полунин, показал бы он этому «так называемому профессору», где раки зимуют…
– Это как же?
– А так, что весь полунинский архив был профессором Жовтяком охарактеризован как собрание безобразных, безнравственных и абсолютно негативных анекдотов об истории науки, способных лишь отвратить советское студенчество от служения человечеству…
– Ну так ведь Жовтяк известная сволочь, – нисколько не возмутившись, сказал Володя. – Но не он же все решает. Ганичев, например…
– Ганичев не например, – перебила Володю Елена Николаевна. – Какой он «например»! Он за Прова цеплялся, а потом сильно сдавать стал. Пров это предугадывал и даже в записках своих отметил. Да и болен он, слаб…
За распахнутыми окнами завыла сирена воздушной тревоги, потом на правом берегу Унчи со звоном ударили зенитки.
– Вы уезжать не собираетесь? – спросил Володя.
– Собираюсь, но только трудно это очень нынче. Почти невозможно…
И, перехватив взгляд Володи, направленный на стеллажи и ящички картотеки, те самые, которые Полунин называл «гробиками», Елена Николаевна сурово сказала:
– Это сожгу. Здесь все кипение мыслей его, все тупики, в которые он заходил, все муки совести…
Выражалась вдова Полунина немножко книжно, но за искренностью ее глубокого голоса Володя почти не замечал лишней красивости фраз. Потом с тоской она добавила:
– Лучше бы учебники составлял. Сколько предложений к нему было адресовано, сколько просьб. Все, бывало, смеялся Пров Яковлевич: «Они думают, что с нашим делом, Леля, можно управиться, как с составлением поваренной книги». Однако же учебники пишутся людьми куда менее даровитыми, нежели Пров, учебники нужны, и если бы была я вдовой автора учебников, то…
Она не договорила, смущенная неподвижным и суровым взглядом Володи. Но он почти не слышал ее слов, он думал только о том, что полунинский архив не должен погибнуть. И внезапно, со свойственной ему грубой решительностью, сказал:
– С книгами ничего не поделаешь! А картотеку мы зароем. Спрячем. Нельзя ее жечь. Что война? Ну, год, ну, два, самое большее. У вас за флигелем что-то вроде садика есть – туда и зароем.
– Я не могу копать, – резко сказала Полунина. – У меня сердце никуда не годится.
– Сам закопаю, только во что сложим?
Хозяином походив по квартире, где увязаны были уже чемоданы в эвакуацию, Устименко обнаружил цинковый бак, предназначенный для кипячения белья. Бак был огромный, многоведерный, с плотной крышкой. И два корыта цинковых он тоже отыскал – одно к одному. В палисаднике, уже в сумерках, он выбрал удобное место, поплевал на ладони и принялся рыть нечто вроде окопа. В Заречье тяжело ухали пушки, из города вниз к Унче несло горячий пепел пожарищ, в темнеющем небе с прерывистым, пугающим зудением моторов шли и шли фашистские бомбардировщики, на железнодорожном узле взорвались баки нефтехранилища – Володя все копал, ругая свое неумение, свою косорукость, свою девичью невыносливость. Наконец к ночи, к наступившей нежданно тишине, могила для полунинской картотеки была отрыта, и две цинковые домовины – бак для стирки и гроб из двух корыт – опущены. Тихо плача, словно и в самом деле это были похороны, стояла возле Устименки Елена Николаевна до тех пор, пока не заровнял он землю и не завалил тайник битым кирпичом, истлевшими железными листами от старой крыши и стеклом, вывалившимся из окон во время бомбежек. Теперь могила выглядела помойкой…
– Ну, все, – распрямившись, сказал Володя. – Теперь до свидания!
– Вы бы хоть поели! – не слишком настойчиво предложила Полунина.
Есть ему ужасно хотелось, да и идти в эту пору с заграничным паспортом было нелепо, но все-таки он пошел. До самой Красивой улицы, до Варвариного дома он знал проходные дворы и такие переулочки, где никакой патруль его не отыщет. И, закинув ремни рюкзака на плечо, он пошел, печально думая о том, что бы сказал Полунин, знай он, что картотека его предназначалась к сожжению, а Елена Николаевна хотела бы быть вдовой автора учебников.
Потом он вдруг вспомнил о полунинских записках и о том, что так и не узнал, что Пров Яковлевич думал о нем – об Устименке. Но это вдруг показалось сейчас неважным, несущественным, мелким и себялюбивым…