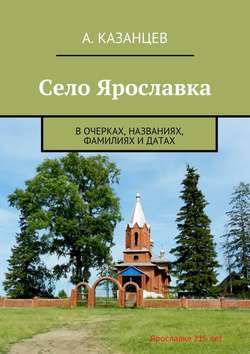Читать книгу Село Ярославка. В очерках, названиях, фамилиях и датах - А. А. Казанцев - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОЧЕРКИ
Брак и семья государственных крестьян с. Ярославки в XIX в.
ОглавлениеПрошлое – ключ к пониманию настоящего и будущего. Изучение брака, семьи, традиций и обычаев – не исключение тому. В семье происходит становление человека, прививаются навыки к труду, от поколения к поколению передаются обычаи и традиции. Крепкая семья – это крепкое государство, стабильное общество. Слабая изученность брачно – семейных отношений русского населения в республике очевидна. Помимо описания тех или иных устоев семьи имеются и другие способы рассмотрения этого вопроса – статистика. Именно статистические данные – таблицы, диаграммы помогут нам взглянуть на семью государственных крестьян села Ярославки в XIX веке.
Государственные крестьяне, переселившиеся в Ярославку из Пермской губернии, были носителями определенных традиций, формирование и развитие которых происходило в местах их прежнего проживания.
В прошлом веке лишь В. Е. Касимовский – действительный член Уфимского Статистического комитета опубликовал два очерка, где кратко описал семейные традиции государственных крестьян, переселенцев из Кунгурского уезда Пермской губернии. «Все русское население Златоустовского уезда, – писал он, – исключая заводы и большая часть Бирского…, состоят из кунгуряков или вообще пермяков»28.
В настоящем очерке рассматриваются брачно-семейные отношения государственных крестьян (кунгуряков) лишь одного села – Ярославки. Основные сведения взяты из материалов ревизий (ревизских сказок): VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.), IX (1850 г.) и метрических книг Никольской церкви села Ярославки за 1863—1900 гг., частично Успенской.
Этнический состав населения Ярославки в начале XIX в. – русские. Представители других национальностей явление редкое не только в Ярославке, но и в соседних деревнях Метелях, Тастубе, Сальевке, Вознесенке. Новокрещенные, как правило, принимали русские фамилии и имена, поэтому проследить их путь почти невозможно. Крещения мусульман в ярославских церквах отмечены, но как единичные случаи.
В начале XIX века численно население Ярославки росло быстро, главным образом за счет рождаемости. Появление новых переселенцев в первой половине XIX века, массовым не назовешь. Судить об этом можно на основе появления в селе новых семей с не встречающимися ранее фамилиями. Только во второй половине XIX в. – начале XX в. до северо-восточной Башкирии доходит поток переселений из Центральных губерний России: Вятской, Вологодской, Костромской, Казанской, Симбирской и других. Отмеченные переселенцы появляются и в Ярославке.
Рост населения в первой половине XIX в. наглядно показан в таблице №129.
Таблица №1. Рост населения Ярославки в первой половине 19 века.
Поселившиеся крестьяне в самом начале XIX в. большей частью были трудоспособные молодые люди, что и обеспечило, даже при высокой детской смертности, устойчивый прирост населения. Так, средний возраст мужчин в 1811 году составлял около 23 лет, мужчины старше 60 лет составляли всего около 5 процентов, а молодежь до 17 лет около 47 процентов. Остальные, т.е. чуть менее 50 процентов, это – крестьяне трудоспособного возраста, основная производительная сила.
Соотношение мужчин и женщин было не в пользу первых. Такая картина сохраняется на протяжении всего XIX века. В цифрах увеличение женского населения выглядит так: от 1,06% (1816 г.) до 1,15% (1850 г.), а уменьшение мужского от 0,94% (1816 г.) до 0,85% (1859 г.). В сравнении с соседними селами соотношение и тенденции, примерно такие же.
Труд крестьянина-земледельца был тяжелым, изнурительным, что естественно сказывалось на продолжительности жизни мужчин, кроме того, небольшому оттоку мужчин способствовали рекрутские наборы (в среднем 3—4 человека в год), а также большая младенческая смертность мальчиков.
У государственных крестьян, живших оседло, наиболее распространены были две формы семьи – малая и неразделенная. «Последняя выступала в разных типах: отцовском (родители – женатые дети – внуки), братском (женатые братья – дети – племянники) и в виде дядя – племянник»30.
Малая семья представлена родителями и их несовершеннолетними детьми. Например, в семье Алексея Абрамовича Чечушкова (отцовская семья) и его жены Веры проживали женатые сыновья Парфен с женой Афимьей и дочерью Мариамной, Панкрат с женой Прасковьей. Максим Иванович Падуков и его жена Пелагея имели трех сыновей: (малая семья) Ивана 17 лет, Степана 14, и Ивана меньшого 3 лет. По данным переписи 1816 г. малые семьи составляли 52 процента (133 семьи), неразделенные 48 (123 семьи). Из них братских 9, дяди-племянники 2, остальные отцовские31. Если в 1816 году самая большая семья Шерстобитовых состояла из 16 человек (братская семья), совместно проживали 4 женатых брата с женами и их детьми, то самая большая семья в 1850 г. насчитывала 26 человек (тоже братская): здесь совместно проживали 6 братьев с женами и детьми32. Изменения в количественном составе ярославской семьи происходили в сторону увеличения ее членов (см. табл. 2.).
Таблица 2. Количественный состав ярославской семьи
Увеличение числа членов семьи и сравнительно небольшой рост дворов объясняется тем что, крестьяне на протяжении первой половины века являлись арендаторами земли, а не ее собственниками. Поэтому в большинстве семей видимо предпочитали не строить новый дом, а расширять его за счет пристрою. Иначе строительство новых домов вызывало недовольство соседей – башкир, о чем они неоднократно напоминали крестьянам и властям. Лишь после того, как в конце 19 века они были признаны собственниками земли на основе Указа Императора – село начинает быстро разрастаться. В конце века застраиваются новые улицы, о которых писал в своем очерке П. В. Староверов.
Характерные черты брачных пар выглядят так: одногодки в браке по ревизии 1816 г. составляли 63 пары или 17,6%, в 1834 г. – 144 пары или 30,4%, в 1950 г. – 165 пар – 27,5%. Заметно увеличивается число браков, где муж старше жены: в 1834 г. – 34%, в 1850 г. – 38,2%. Соответственно уменьшилось число браков, где жены старше мужей с 48,4% в 1816 г. до 34,2% в 1850 г.
Таким образом, к середине 19 в. примерно треть браков были одногодые, в трети муж старше жены, в трети браков жена старше мужа. Такие изменения, видимо, свидетельствуют о том, что большее число, чем раньше, брачующихся вступают в союз по взаимному согласию. «Браки не добром, а убегом редки, и случаются по несогласию родителей которой либо стороны» – писал В. Е. Касимовский. Следует отметить также небольшое постарение браков к середине века. Перепись 1816 г. фиксирует брачные пары, где возраст брачующихся мужчин 17—18 лет. Например, Ерофей Сергеевич Сарапулов 17 лет был женат на Степаниде 20 лет. Григорий Михайлович Ростегаев 17 лет женат на Аграфене, которой – 19 лет. Перепись же 1850 г. редко фиксирует браки 17-летних. Относительно раннее вступление в брак мужчин (когда невеста старше) В. Е. Касимовский объясняет желанием «родителей женить сына пораньше, чтобы не „избаловался“ и приобрести в семье настоящую работницу». Общее число мужчин и женщин состоящих в браке равнялось в 1816 г. 44,5% и 45,5% в 1850 г.
В Ярославке почти нет холостяков старше 30 лет, очень редко мужчины вступают в брак после 20 лет. Незамужних девиц значительно больше: в 1816 г. – 27, 42 – в 1850 г. Таким образом, к 20 годам своей жизни большинство молодых уже решало свой семейный вопрос: обзаводились семьей, растили детей. К 17—19 годам мужчина многое уже умел, многое перенял от своего отца в ведении крестьянского хозяйства. Определить средний брачный возраст для мужчин, однако, не просто, но видимо он был на уровне 17,5 – 18 лет для первой половины века.
В 60-е годы средний брачный возраст для мужчин (впервые вступающих в брак) равен 19,7, для женщин 18,7 лет. К концу века средний брачный возраст и у мужчин и у женщин постарел на год и составлял 20,6 лет для мужчин и 19,9 лет для женщин. То есть разница в возрасте в один год сохраняется, но сам брак устаревает.
Поскольку бракоразводные дела нам неизвестны, то судить о причинах развода, возрасте разводящихся не приходится. Но видимо «недовольные друг другом, не сошедшиеся характерами, супруги добровольно расходятся», а «семейные бури кончаются иногда и разводом по суду»33.
В большинстве случаев после развода или после смерти жены мужчины женятся во второй и третий раз. Например, по данным за 1850 г. во второй раз были женаты 48 мужчин и трое женаты третьим браком. В этом случае интересна такая деталь: мужчина-крестьянин женившись во второй раз выбирал себе жену на много младше себя. Так, в 36 случаях мужчины женатые вторым браком старше своих жен от 10 до 37 лет лишь в 15 браках от 1 года до 9 лет. И не разу мужчина не женился во второй раз, выбрав в жены женщину старше себя. Общее число мужчин состоящих в браке равнялось в 1816 г. – 44,4 процента и 45,5 в 1850 году.
Большинство невест ярославских женихов были жительницами соседних сел: Метелей, Тастубы, Дувана, Усть-Икинска. Во второй половине 19 века в жены брали невест из Сальевки. Третья часть всех невест были ярославскими девицами. Стоит добавить, что регистрацию браков и таинство крещения совершали в Никольской церкви священник, дьякон, дьячок и пономарь.
Как уже было сказано, рождаемость на селе была основным фактором увеличения населения Ярославки. О рождаемости в первой половине XIX в. можно судить лишь косвенно. Более полные данные содержат Метрические книги. Данные за 9 лет второй половины XIX в. показывают о большем рождении мальчиков, чем девочек. В редкие годы число рожденных девочек превышало число рожденных мальчиков.
Таблица 3. Рождаемость мальчиков и девочек.
Младенцы мальчики умирали чаще, чем девочки. Так, в середине 60-х годов из новорожденных мальчиков выживало 45,5%, девочек 54,5%. В середине 70-х годов показатель для обоих полов стал еще ниже – мальчиков выживало 33,7%, девочек 40%. В конце 90-х годов выживаемость младенцев повышается до 61,6% у мальчиков и 65,7% у девочек. Снижение детской смертности к концу века, видимо, следует объяснить улучшением медицинского обслуживания населения (в селе проживал фельдшер А. С. Дорофеев), а также деятельностью земств, улучшением домашнего быта, повышением общей культуры среди сельчан.
Почти невозможно выяснить сколько раз в жизни рожали женщины. Но, учитывая, что умирал каждый второй ребенок, а средняя брачная пара имела 3—4 ребенка, то средний показатель будет равен 6—8 раз. В то же время, нередки случаи, когда женщина рожала 15—16 детей, а в живых оставалось только двое-трое.
Родившихся детей сразу же несли в церковь – крестить, помня что, крещеного бережет Бог. Обычно новорожденных крестили на 2—3 день, редко в более поздние сроки. Выбор имени новорожденному происходил примерно так. В русской православной церкви имелись месяцесловы или святцы, где на каждый день каждого месяца записаны имена святых, которых в этот день чтит церковь.
Священник перед обрядом крещения предлагал на выбор несколько имен, которые значились в святцах на день рождения ребенка. Этим обычно дело и кончалось. Самым распространенным мужским именем было имя Иван – встречающееся в церковном календаре – 79 раз, а в святцах более 170 раз.
Нередки случаи, когда в семье было два Ивана, Константина… в этом случае младшего именовали «меньшой». Встречаются и исключения, когда имя новорожденного не совпадало с церковным.
Выбор имени был большой, однако, одни имена использовались часто, другие редко, а третьи никогда. Все зависело от эпохи, исторических событий, семейных традиций и предпочтений родителей. В переписи 1816 г. наиболее часто упоминаются имена: мужские – Иван – более 98, Степан – 30, Григорий – 27, Федор – 25, Яков – 23, Ефим- 24, Василий – 22, Семен – 20, Михаил – 19, Петр – 17, Андрей – 16, Алексей и Козьма – 14, Дмитрий и Павел – 13, Трофим и Никифор – 11; женские – Прасковья, Евдокия -58 раз, Анна – 54, Мария – 35, Дарья – 32, Анастасия – 28, Марфа и Агафья – 26, Федосья – 24, Пелагея – 23, Степанида – 22, Елена – 20.
К числу редких имен (одно-два упоминания) в начале 19 в. относились мужские имена: Авдей, Аввакум, Агафон, Аверьян, Андрон, Андриян, Акинф, Анисим, Анфим (перепись зафиксировала одно не русское имя Анурхан, носил его родственник Григория Рогозина). Варфоломей, Влас, Владимир, Василиск, Галактион, Герасим, Евдоким, Елизар, Елистрат, Епифан, Ермолай, Ефрем, Панкрат, Панфил, Платон, Прохор, Прокопий, Роман, Нил, Нефед, Никон, Назар, Наум, Фадей, Фалалей, Ферапонт, Феклист, Фотей, Устин и многие другие.
Редкие женские имена: Вера, Гликерья, Мариамна, Надежда, Неонила, Феклиста, Харитонья и другие. В целом, согласно ревизии 1816 г. мужчины носили 152 имени, а женщины только 57 (с учетом народных форм 65 имен). Для наречения новорожденных в 1864 г. использовано 50 мужских имен и всего 31 женское имя.
Наибольшая младенческая смертность приходилась на летние месяцы «Малые дети мрут, как мухи», – писал В. Е. Касимовский. Но причину этого он видел в том, что «по случаю страды няньками бывают 7—8 летние дети». Вряд ли это основная причина. Отсутствие лекарств, своевременной медицинской помощи, эпидемии и многие другие факторы влияли на высокий уровень младенческой смертности. Смертность от года до пяти не более 8—10 процентов.
Причину смерти до года указывали так: «умер от младенческой болезни». Ниже приводятся причины смерти жителей села в 1872 г. Оспа – 34, корь – 5, коклюш – 5, тиф – 1, лихорадка – 1, чахотка – 5, болезни горла – 9, скарлатина – 2, водянка – 1, простуда – 2, удушье – 1, утопленник – 1, от запоя умер один мужчина.
1871 году в крае широко была распространена холера. Болели в основном женщины. Из 22 умерших от холеры, 16 были женщины. Несмотря на частые роды, смерть рожениц не превышала трех случае в год. Смерть после 65 лет записывали так: «умер от старости». Средний возраст умерших в 1864 году составил 16,7 лет. В то же время встречаются долгожители (больше среди мужчин). Например, Алексей Алексеевич Вештамов умер в возрасте 105 лет (метрические книги за 1865 г.). В этом же возрасте умер Михаил Герасимович Потапов (1871). В возрасте 100 лет умерли: девица Марина Ефимова (1867 г.), К. Коренев (1900 г.), выходец из Вятской губернии Е. Ульянов (1898 г.) и др.
Тяжело больных исповедовал кто-либо из служителей церкви. Не исповеданными оставались те, кого смерть настигала внезапно. Умерших принято было отпевать на дому или в церкви. Погребение проходило в их же присутствии.
Вдовство – тяжелая ноша. Но вдовцы, проживающие одиноко, явление редкое. Из семи дворов, состоящих из одного человека проживали всего два вдовца: Е. Крылосов 69 лет и Л. Ваганов 63 лет. В остальных пяти случаях в переписи указаны малолетние дети, оставшиеся без родителей, главным образом по причине рекрутских наборов. Так, К. Белышов (семи лет) и Ф. Климовских в переписи показаны в единственном числе. Родион Ширинкин, взятый в рекруты в 1813 г., оставил малолетнего сына Андрея, Осип Ростегаев – сына Федора. Заботой и воспитанием таких детей занимались близкие родственники. Константина Белышова (семи лет) воспитывал дед Семен Михайлович Белышов и бабка Матрена. То же можно сказать о Федоре Ростегаеве, которого опекал дядя Михаил Нестерович Ростегаев. Как правило, дети рекрута оставались в семье родных по мужской линии.
Женщина, чей муж отбыл на службу, именовалась «солдаткой». Служить приходилось до 25 лет. Поэтому она могла возвратиться в семью отца, нередко рожала детей. В случае смерти мужа, женщина оставалась в его семье или его родных и воспитывала детей. Например, вдова Настасья Кулешова (40 лет) проживала в семье брата умершего мужа Якова Кулешова. Дети, рожденные вдовами и солдатками в метрических книгах записывали как «незаконнорожденные». Отношение к этим женщинам было вполне терпимое.
Вдовцы чаще всего проживали со своими детьми, в семье своих сыновей находили приют вдовы. Реже вдовцы проживали со своими несовершеннолетними дочерями, которые скрашивали одиночество старика. В целом вдов было больше вдовцов.
Таблица №4. Характеристика брачных пар.
В русском крестьянском обществе Башкирии в отличие от башкирского мужчин было меньше, чем женщин (у башкир наоборот). В виду роста членов семьи к середине 19 в. получает распространение неразделенная семья, однако, ни малая, ни разделенная численно не преобладала. На каждую семью в среднем приходилось всего 1,3 трудоспособных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Регулирование брачно – семейных отношений происходило, главным образом, на уровне морали (запреты на вступление в брак с родственниками, раннее вступление в брак и др.). Казалось, традиции старины оставались незыблемы, но постепенные, медленные изменения происходили и в этой области человеческой жизни. Заботу о малолетних детях, оставшихся без родителей осуществляли ближайшие родственники, нередки случаи привода в семью приемных детей: приведенников и покормленников. Климат в семьях кунгуряков не всегда был теплым, так как мужья, становясь хозяевами, подчиняли себе жену, относились к ней достаточно сурово.
28
Уфимские губернские ведомости. 1868. N 3. С.19.
29
НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д.166, Д.353, Д.448, Д.604. Данные переписи 1859 г. взяты из книги Б.С.Давлетбаева Большая Ока. История села. Уфа.1992. С.51—52.
30
Асфандияров А. З. Семья и брак у башкир в 17 – первой половине 19 в. Уфа. 1989. С.11.
31
НА РБ. Ф.И-138. Оп. 2.Д. 116.
32
Там же. Д. 604. Л. 52об.-53.
33
Касимовский В. Е. Исторические очерки о Дуване. Месягутово. 1991. С.18.