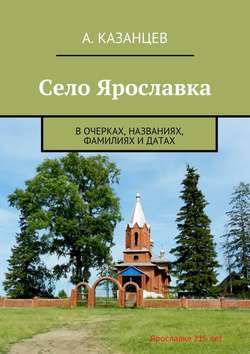Читать книгу Село Ярославка. В очерках, названиях, фамилиях и датах - А. А. Казанцев - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОЧЕРКИ
Село Ярославка до образования колхозов (1926—1929)
ОглавлениеАтмосферу сельской жизни конца 20-х – начала 30-х годов передают протоколы бедняцких собраний граждан села Ярославки. Они позволяют проследить изменения в настроениях крестьянской массы, общественном климате не только села, но и района, республики и страны в целом.
«Собрания бедноты проводились партийными организациями и Советами в соответствии с решением октябрьского Пленума ЦК РКП (б) 1925 г. Они должны были отстаивать интересы неимущих слоев деревни в работе Советов и кооперации, в предвыборных кампаниях и т.д.»60.
На собраниях сельчане решали самые различные вопросы устройства своей жизни: наделение землей, благоустройство улиц и кладбищ, дежурство в ночное время, борьба с хулиганством и многие другие. В то же время собрания явились мощным орудием сталинской власти в утверждении колхозной жизни.
Собрания 1926—1927 годов отражают некоторые вопросы взаимоотношения между коммунами, сельхозартелями и ТОЗами.
Коллективные хозяйства до начала коллективизации, как известно, включали в себя три вида хозяйственных объединений: коммуны, сельскохозяйственные артели, товарищества по совместной обработке земли.
Сельскохозяйственная коммуна представляла собой одну из форм сельскохозяйственной кооперации. В с/х коммуне обобществлялись средства производства (постройки, мелкий инвентарь, скот) и землепользование. Распределение в коммуне было уравнительное: не по труду, а по едокам. Члены коммуны не имели своего личного подсобного хозяйства. Документы тех лет упоминают ярославские коммуны: «Маяк» с земельной площадью 71,13 дес.61, «Соха», «Пчела».
Возникновение коммуны «Соха» старожилы относят к 1919 году. Ее земельный участок находился на месте нынешнего плодово-ягодного сада. В конце 1926 года кантземуправлением был рассмотрен вопрос о передаче в Ярославское общество земельного участка коммуны «Пчела», ранее принадлежавшей соседнему Сальевскому обществу. Однако в протоколах собраний 1927 года эта коммуна именуется уже как сельхозартель62.
В сельхозартели обобществлялись труд, земля и все основные средства производства: в личной собственности колхозников оставались лишь жилые постройки, мелкий инвентарь, продуктивный скот в количестве, предусмотренном Уставом с/х артели, небольшой приусадебный участок земли для ведения личного хозяйства. Сельхозартели в Ярославке, как впрочем и в стране, в 1927 году были мелкими. Ярославской с/х артели «Трудовик», объединявшей 25 человек, принадлежало всего 48, 02 дес. удобной земли. Сельхозартели «Конь» – 1263. Как правило это были мелкие хозяйства, объединявшие несколько семейств, а возможно только родственников. На собраниях 1927 года упоминаются также с/х артели «Плуг» и «Бедняк».
Простейшими производственными объединениями крестьян являлись товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). Эта форма объединения предполагала добровольное обобществление земли и труда при сохранении собственности на средства производства. В ТОЗах обобществлены были только машины и орудия труда, приобретенные на доходы товарищества. Рабочий скот объединялся только на период выполнения с/х работ. Доходы распределялись по количеству и качеству труда, вложенному в общественное хозяйство, иногда по едокам.
Товарищества по совместной обработке земли в Ярославке именовались группами. У них не было названия, поэтому себя они идентифицировали по месту расположения земельного участка (по названию местности) или по месту жительства (по названию улицы). В протоколах бедняцких собраний называются следующие группы: Первоверховская (первая вверху), Дубовская (на Дубовой горке), Камышловская (по месту жительства, улица, речка), Шадринская (именование по фамилии), Подгорская (по месту жительства или место под горой, (Черноключенская (от названия Черный ключ) и др64.
Всего удобной земли, с вместе взятыми участками коммун, с/х артелей, групп, а также с землей единоличников, с вычетом под леса и постройки, водоохранную зону за ярославцами числилось 7306, 67 дес. В 1927 году в Ярославке проживало 3891 человек. Исходя из общей площади обрабатываемой земли и количества населения, была рассчитана норма на одного человека. В Ярославке она в то время составляла 1,88 дес. земли. Из них пашни на каждого человека приходилось 1, 47 дес., выгона 0,26 дес., под усадьбу отводилось 0,15 десятины65. При наделении крестьян землей собрания руководствовались этими цифрами. Собрание решало, кому и где выделить участок под пашню. К сожалению, производственная сторона деятельности этих форм объединений, как и единоличников, остается пока невыясненной.
Январское собрание 1927 года решало проблему восстановления моста через р. Мелекес, снесенного сильным весенним половодьем 1926 года. Апрельское собрание обязало граждан села «произвести завалку дорог каменистым материалом против каждого дома», организовало пожарную охрану на май-октябрь 1927 года, возложив обязанности на пожарных ямщиков, установило хождение односельчан по ночам, начиная с 15 апреля (дежурство)66.
Осенние собрания предусматривали наведение порядка на кладбищах, борьбу с беспризорными собаками, принудительное освидетельствование венерических больных67. В целом бедняцкие собрания 1927 года проходили в относительном спокойствии. Протоколы собраний этого года не зафиксировали подозрительности друг к другу, взаимных обвинений. Слово «кулак», в протоколах собраний, а, следовательно и в повседневной жизни, встречается редко.
Как известно, курс на постепенный переход к колхозно-совхозной форме организации был взят на XV съезде ВКП (б) в декабре 1927 года. В стране шло упрочение командно-административной, бюрократической системы. Для ее господства нужно было подчинить крестьянство, т.е. три четверти населения. Для достижения этой цели был пущен миф о коллективизации как превентивной мере против ужасной кулацкой опасности.
Первую половину 1928 года яровлавцы прожили вполне благополучно. Нагнетание нервозности, подозрительности, ненависти стало проявляться с осени 1928 года. На состоявшемся 14 октября 1928 года собрании в заключительном слове докладчик В. Дудин сказал: «Государству выгоднее держать не кулацкое хозяйство, а выгодно поднять всю бедняцкую массу до уровня середняка. Всю бедноту поднять, а кулака… изжить, так как оно (кулачество – А.К.) приносит только вред советской власти и подрывает советские начинания. Такова политика советской власти»68. Это собрание положило начало притеснению зажиточной части населения с. Ярославки.
Ноябрьское собрание запретило хождение «молодежи и пьяным» после 9 часов вечера. Запрещалось хождение «с песнями по улице». Провинившиеся граждане несли наказание. На замеченных в хождении с песнями или пьяном виде, на первый раз составлялись акты, которые передавались в волостной исполнительный комитет (ВИК). «Замеченные во второй раз предавались суду», «неисправляющиеся» решением общих собраний подлежали выселению за пределы общества. Ужесточены были санкции к лицам, не являющимся на общие собрания: штрафы – от 50 коп. до 1 руб., предоставление ВИКу акта для наложения административного взыскания69.
На отчетном собрании кантисполкома, Ярославского с/с и ревкомиссии (собрание проходило в начале декабря 1928 г.), местные власти получили от ярославцев наказы: ужесточить борьбу с хулиганами и самогоноварением; прислать фельдшера; разрешить кустарное производство; открыть в селе еще одну школу; добавить книг в избу-читальню.
Наступление на кулачество проходило на фоне борьбы за выполнение плана хлебозаготовок, ограничения и запрещения продажи хлеба на близлежащие заводы.
В середине декабря 1928 г. ревкомиссия с/с на собрании ставит перед гражданами села задачу: изъять хлебные излишки в пользу государства. В этом году еще можно было без страха возражать, защищаться, доказывать свою правоту, поэтому среди крестьян были такие, кто отстаивал право на использование, выращенного собственным трудом хлеба по своему усмотрению. В частности, гр. Елкин высказался следующим образом: «Граждане, продавая хлеб заводу, тоже помогают государству в деле снабжения рабочих хлебом». Но члены ревкомиссии объяснили «непонятливому» (А.К) Елкину, что продаваемый на завод хлеб попадает к перекупщикам, а рабочие заводов снабжаются в плановом порядке».
Единогласно принятое постановление было жестким: «Все имеющиеся излишки хлеба сдать в хлебозаготовительные органы… к 1 января 1929 г. Злостных держателей хлеба бойкотировать на общих собраниях граждан, исключать из членов потребкооперации и сельхозкооперации». Частная торговля, более выгодная для крестьян (цены на рынке были в 2 раза выше государственных), стала рассматриваться как злостная спекуляция.
Через две недели (25 декабря), когда срок сдачи излишек еще не истек, на собрании уже выявляются «злостные хлебодержатели», «спекулянты»: Ваганов, Меденников, Плюснин. Их объявили врагами советской власти, ибо они стремятся «сорвать плановость пролетарского государства». На этом собрании мужики неробкого десятка резонно замечают, что «государство не стремится укрепить крестьянские хозяйства ввиду введения непосильных налогов». Однако их никто не поддержал. Один из присутствующих на собрании «глубокомысленно» заявил: «во избежание краха страны будем сдавать хлеб только государству». В отношении семи середняков А. Корзникова, С. Водолеева, И. Патракова, Ф. Нехороших, Ф. Ширяева, П. Ширяева, Ф. Ширяева собрание вынесло порицание «как не сдающих хлебные излишки»70.
Начиная с января 1929 г., обязательным пунктом повестки общего собрания был вопрос о хлебозаготовках (собрания от 6 и 27 января, 22 февраля, 18 марта, 2 и 26 июня…). Изъятие «излишек хлеба» с помощью карательных органов, повышение индивидуальных налогов для зажиточных в 2—3 раза и даже в 5—6 раз вело к озлоблению их»71.
Постановления собраний 1929 года все чаще предусматривают насильственное выживание кулаков и их истребление. Бедняцкая часть собрания предлагает: «к злостным несдатчикам хлеба применять статью 107 УК»72. А гражданка Власова призвала всех бедняков «сплотиться ввиду того, что кулаки хотят закабалить бедняков, и дать им отпор. Есть отклики, – сказала он, – убивать активных бедняков73.
Собрание, проходившее 6 января 1929 года, постановило: «гр. Климовских, Озорнина, Меденникова, Ваганова выселить в двухнедельный срок из пределов Башреспублики»74. Угрозы сыпались не только со стороны бедняков, но и со стороны уполномоченных. Так, уполномоченный кантисполкома (КИК) Никифоров напомнил ярославцам, что в 1928 г. была применена 107 статья Уголовного кодекса, «будет она применена и в этом году».
Если судить о количестве так называемых «хлебных излишках», то видимо, они были немалые. Например, гр. Шолохов (видимо достаточно зажиточный середняк) в 1928 г. сдал 325 пудов «хлебных излишек», а план выполнил только наполовину.
Обострение обстановки продолжается весь 1929 год, причем бедняцкая часть села чувствует себя хозяевами положения и диктует свои условия. На собрании один крестьянин, оправдываясь сказал, что на вырученные от продажи деньги он купил дом, и излишков у него нет, то в его адрес были брошены слова: «не нужно давать слова защищать себя». Малограмотные бедняцкие элементы чувствовали, что государство и уполномоченные на их стороне, а от этого их ретивость еще более усиливалась.
Изъятие хлеба у крестьян тут же сказалось на работоспособности скота. «Возить навоз (на поля – А.К.) не представляется возможным ввиду неимения корма для лошадей», – так проинформировали уполномоченного КИК Никифорова крестьяне в феврале 1929 г. Но уполномоченный был неумолим и предупредил, что, несмотря на ряд принятых мер, хлебосдача идет слабо.
На февральском собрании сельскому Совету и ревкомиссии было предоставлено право выбирать злостных несдатчиков для наказания путем наложения самообложения до 50% с уплатой паевого взноса в трехдневный срок75.
В марте 1929 года своеобразно была отпразднована 10-я годовщина образования БАССР. По случаю праздника в селе организовали собрание, собравшее 273 человека, прибыл на это собрание и уполномоченный КИК Никифоров.
Первым пунктом повестки собрания значился вопрос: «О праздновании 20-го марта 10-летия БАССР. По организации красного обоза».
Никифоров информирует крестьян о том, что план хлебозаготовок выполнен на сто процентов, но поскольку 20 марта знаменательная дата, то нужно собрать еще 1000 (тысячу) пудов хлеба. В постановлении записали: «Отметить праздник организацией красных обозов в тысячу пудов. Выбрать для выполнения настоящего постановления 15 комиссий. Все граждане, за исключением покупающих хлеб, которые будут отказываться от выполнения постановления, зачитать на торжественном заседании и вынести общественное мнение»76. Так отмечали праздник, создавая совсем не праздничное настроение.
Видя безжалостное изъятие хлеба, крестьяне стали думать: как бы избежать такой участи. Выход нашли в сокращении посевов. Но и тут общее собрание взяло на вооружение давний прием – круговую поруку: «Все посевы, – гласило постановление одного из собраний, – контролировать постоянно»77. Контроль был возложен на самих крестьян, от зоркого ока которых невозможно утаить ни пуда зерна, ни десятую десятины.
Собрания бедноты до образования колхозов идеологически подготовили почву для насильственной коллективизации. Бедняцкая масса, пусть не самая многочисленная в селе, оказалась послушным орудием в руках руководства. Бедняки содействовали выколачиванию хлеба у крестьянских хозяйств, распространению займа, наложению самообложения, составлению списков крестьян, не сдающих государству хлеб и т. д.
Чрезвычайные меры, применявшиеся в деревне в 1928 – 1929 гг., не дали заметных результатов: хлеба не прибавилось, посевы не увеличились, жизнь не улучшилась. Ноябрьский пленум ЦК ВКП (б) (10—17 ноября 1929 г.) взял курс на форсированную коллективизацию, отказавшись тем самым от варианта добровольного объединения крестьян в с/х производственные кооперативы.
Впервые о создании крупных коллективных хозяйств заговорили на собраниях в декабре 1929 г., а в январе 1930 г. общее собрание граждан села решало: быть или не быть колхозу.
Пути развития крестьянских хозяйств волновали очень многих, поэтому это собрание было самым многочисленным по числу присутствующих – 454 человека. Выступивший на собрании новый уполномоченный КИК, Назаров, доказывал крестьянам о возможности улучшения жизни путем коллективизации как единственной мере. Его слова нашли поддержку со стороны крестьян Чечушкова и Сухнева, они на протяжении всего собрания во всем поддерживали уполномоченного. Более того, П. Чечушков предложил: «всех кулаков выселить из Ярославки». «Меры советской власти будут беспощадны, кулачество как класс должен быть уничтожен, жалеть их нечего», – заявил П. Чечушков. Иных предложений не было, возражений тоже, а в принятом постановлении все те же угрозы: «повести самые решительные меры борьбы с кулачеством, немедленно выселить всех бывших белобандитов и кулаков, национализировать все их имущество»78.
Середняки Ярославки превращались в ведомых бедняков, ибо последние сочли необходимым повести их за собой в колхоз. В колхоз записалось только 100 человек.
Это собрание утвердило список из 49 фамилий: столько семей подлежали выселению за пределы села. В чем была их вина? Н. И. Зуеву и М. И. Водолееву собрание припомнило прошлое – были слухи, что они участвовали в избиении семей красногвардейцев в 1918 г. Я. Жуланов «принимал участие против красных». Но никто не подтвердил этого, так как «прямых улик нет», – сказал П. Чечушков.
В другой список было внесено 82 фамилии – их лишили права вступления в колхоз. Как видно из протокола собрания, организация колхоза сопровождалась с одновременным наступлением на зажиточных крестьян и обособлением бедняков в колхозе. Созданный гигантский колхоз, состоящий из четырех сел (Тастубы, Вознесенки, Ярославки и Сальевки), был громоздким и плохо управляемым. Поэтому в марте 1930 г. он был разукрупнен, и в каждом селе создавался свой колхоз.
Помимо подготовки инвентаря к севу в зимний период, ярославцы ежегодно участвовали в лесозаготовках. Эта работа была тяжелой и изнурительной, так как большую часть работ приходилось выполнять вручную. Лес возили на конях. Оплата была очень мала. Многих заставляли работать принудительно. На лесозаготовки сельсовет выдавал повестки. Уклоняющихся объявляли «дезертирами», угрожали исключением из колхоза и «преданию суду»79.
В начальный период организации колхоза у большинства крестьян представление о нем было смутное и противоречивое. На словах многие были за колхоз, но когда дело доходило до практических шагов, – записи в колхоз, обобществление скота и инвентаря, – многие крестьяне колебались. Записывались в колхоз, а затем выходили из него, а некоторые семьи проделывали это по нескольку раз.
Массовому выходу из колхозов способствовала статья И. Сталина «Головокружение от успехов»80 и появившееся 14 марта Постановление ЦК ВКП (б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». Большинство крестьян поняли ходы Сталина по-своему – он против колхозов.
Пока местные партийные кадры пребывали в полном смятении, начался массовый выход крестьян из колхозов (только в марте 5 млн. человека)81. Для разъяснения сложного положения в селе было проведено собрание (дата проведения собрания на протоколе не указана). Местные власти пояснили позицию Сталина, который «за колхозы на добровольных началах». А те, кто ведут разговоры и выходят из колхоза, «тянутся за кулаком, желая расколоть колхоз»82.
Видимо местные власти не имели четкого представления, ясной позиции и указаний в отношении обобществления скота и инвентаря. Иначе как понять недоуменные вопросы крестьян к уполномоченному Назарову, который об обобществлении скота ранее говорил совершенно другое.
Недостатки руководства коллективизацией легко оправдать вредительством со стороны кулаков. Возможно, упование на вредителей было отвлечением крестьян от недостатков проводимой коллективизации. Ибо на каждом собрании в постановлении включался пункт о пресечении, выявлении, наказании, предании суду «кулацких элементов». Выявление было возложено на самих крестьян: «Выявлять вредителей колхозного строительства при помощи общественности и бедноты»83. Таким образом, в практику жизни села внедрялось доносительств, впрочем практика эта у большевиков была на вооружении еще с времен Гражданской войны.
Приближалась первая колхозная весна. Во избежание срыва весеннего сева по селу прокатилась еще одна кампания изъятий. На этот раз предлагалось обменять оставленное на продовольствие семенное зерно на муку. В ходе объявленной «ударной недели» необходимо было вести «разъяснительную работу» и «разоблачать злостных укрывателей семенного материала»84.
Опубликованный в центральной печати (2 марта 1930 г.) примерный устав призван был регулировать отношения между крестьянами-колхозниками и государством. Устав предусматривал сдачу колхозами и гражданами села всей товарной продукции по контрактационным договорам. Эти договоры составлялись «летом в соответствии с видами на урожай и часто менялись в сторону увеличения. Фактически контрактация вылилась в продразверстку»85.
Для того, чтобы крестьяне в Ярославке согласились на контрактацию, уполномоченный Назаров разъяснил, что «при контрактации посева, товарный хлеб оценивается дороже на 38 копеек за центнер»86. Хотя цена, по которой хлеб контрактовался в Ярославке, нам не известна, тем не менее, по стране «заготовительные организации платили колхозам за 1 ц ржи 4,5 – 6,1 руб., а пшеницы 7,1 – 8,4 руб., что было в 4—5 раз меньше себестоимости этой продукции; ведь даже в специализированных совхозах себестоимость этой продукции составляла около 23 руб. за 1 ц и была значительно выше заготовительных цен»87.
В июне 1930 г. контрактация яровых и озимых в селе Ярославке была определена на уровне 100%, скота – 25%, причем «одна корова не контрактуется, телята контрактуются в обязательном порядке»88. При контрактации скота колхозникам выдавался аванс в размере 40%, а единоличникам – 30% стоимости одной головы скота. Иных льгот предусмотрено не было. На шерсть и яйца контрактация была добровольной и предусматривала незначительные льготы. Если крестьянин выполнял условия контракта по яйцам и продолжает их сдавать, то за каждый десяток (он стоил 30 коп.) сверх получал 2 коп. надбавки. Позднее в контрактацию было включено молоко. Существенным недостатком контрактации была ее обязательность, льготы выдавались только беднякам.
Еще один способ изъятия средств у села осуществлялся путем распространения займа. «Ни одного без займа», «Пятилетку в 4 года» – эти призывы были поддержаны ярославской беднотой. Различного рода лозунги, призывы имели свою цель: заставить кого добровольно, кого из боязни повиноваться властям. В ходу было сравнение эффективности работы хозяйств. Во время хлебозаготовок урожая 1930 г. на собрании ярославцам было указано на отставание от соседей.
Бесконечные споры, дрязги надоели самим крестьянам. «Чем скорее сдадим хлеб государству…, мы сможем заняться другими делами» – так говорили некоторые крестьяне.
Кроме указанных выше изъятий (хлеба, денег…), в данный период существовал еще сельскохозяйственный налог, государственная страховка, индивидуальное налогообложение (самообложение). «Закон о самообложении» был принят 29 августа 1924 г. Он стал одной из форм добровольного привлечения средств населения на финансирование хозяйственного и культурного строительства в деревне. В его основу был подложен уравнительный принцип. 24 августа 1927 г. в целях использования самообложения в качестве метода экономического давления на кулачество ЦИК СССР и СНК СССР приняли новое постановление о самообложении населения, в основу которого был положен классовый принцип учета мощности отдельных хозяйств.
Широко использовался труд так называемых принужденцев: зимой – на лесозаготовках, летом – на уборке урожая. Еще до начала уборки в села рассылали директивы. Одна из них, обращенная ко «Всем волостным бюро принудительных работ» нацеливала на «выявление всех принужденцев, не отбывших до н\в работ, назначенных судебно-административными органами. По выявлении все принужденцы должны быть брошены на поля на уборку урожая»89.
Организация колхозов в начале 1930 г. совпала с перевыборами в местные советы. В селе прошли отчетные собрания. Активность избирателей была низкой. На избирательные участки в марте 1930 г. пришло только 600 человек из 2200 имевших право голоса или около 27%. В Сальевке голосовало 166 человек из 796 (около 20%), в Тастубе 446 из 1275 (около 34%), в Улькундах 559 из 1198 (около 46%). Низкая явка на избирательные участки – свидетельство неодобрения большинством населения проводимых мероприятий коллективизации, неприятие нововведений, ломавших привычный уклад жизни.
Несмотря на низкую активность избирателей, выборы состоялись. В Ярославке был избран новый состав сельского совета. Всего в местный Совет было избрано 50 человек (43 мужчины и 7 женщин). Беспартийных – 37, членов ВКП (б) – 10, ВЛКСМ – 3. В первый раз было избрано 34 депутата. Возрастной состав выглядел так:
от 18 до 23 лет – 7;
от 24 до 29 лет – 20;
от 30 до 39 лет – 15;
от 40 до 49 лет – 8;
старше 50 лет – не избрано ни одного90.
Таким образом, более половины депутатов были в возрасте до 30 лет, т.е. молодежь, а она, как известно, придерживается максималистских взглядов.
Группа лишенных избирательных прав насчитывала 117 человек. Это были граждане «использующие наемный труд» – 27 человек, «семь служителей культа», «3 служащих и агента бывшей полиции», «68 человек в возрасте от 18 лет находились на иждивении лишенных избирательных прав» и другие».
К началу сплошной коллективизации большинство крестьян села были верующими. Община при Никольской церкви насчитывала 813 прихожан в возрасте от 18 лет, и столько же верующих было при Успенской церкви. Авторитет священников был значительно выше, чем новой власти. Стремясь вбить клин между верующими и священниками, власти пытались обвинить последних во всех явных и мнимых грехах. Например, священников обоих церквей обвинили в том, что они тормозят выполнение плана хлебо- и лесозаготовок. Их объявили злостными несдатчиками хлеба, лишали права голоса. А в 1933 году оба священника были оштрафованы на 350 рублей каждый. Несколькими годами ранее священник Никольской церкви Иван Басманов был осужден по статье 58 УК. п.10—11. В 1931 г. священник Успенской церкви Борис Цыпышев осужден по статье 124 УК91.
Прокатившаяся по стране волна осуждений по сфабрикованному делу «о промпартии», не прошла мимо Ярославки. «Мы, общее собрание граждан с. Ярославки постановляем судебным органам вынести суровый приговор… тесно сплотимся вокруг коммунистической партии, и будем активно участвовать в работе… выполнять в срок полностью государственные планы по хлебозаготовкам, по контрактации скота и мобилизации средств по реализации облигаций по займам через стопроцентный паевой взнос»92. Такого рода осуждения одних, и одобрения действий других были своеобразной психологической обработкой населения. Пропаганда умело давила на сознание малограмотных людей.
Нам с детства знакомы фотографии – за школьной партой сидят бородатые, седые старики. Что толкало их на изучение грамоты? Только ли желание научиться грамоте? Ответ можно получить, заглянув в постановления бедняцких собраний. В одном из постановлений записано: «граждан, уклоняющихся от ликвидации неграмотности привлекать к ответственности, административному взысканию, вплоть до предания суду»93. С образованием в начале 30-х годов и впрямь было туго, то негде учить (занятия проходили в церквах), то в школу пойти не в чем.
Собрания второй половины 1930 года рассматривали и утверждали характеристики на граждан подлежащих индивидуальному обложению налогом. «Если задания индивидуального обложения сельхозналогом не выполнялись, то их увеличивали в несколько раз. Все это обостряло социально-политическую обстановку в деревне, толкало разоряемые группы крестьян на путь сопротивления и протеста»94. Основанием для обложения сельхозналогом было: материальное благополучие или использование наемного труда. Вот примеры некоторых характеристик: «Неволин Роман – спекулянт, занимался ростовщичеством хлеба», «Токарев Осип – спекулировал, слал в город хлеб и масло, а оттуда привозил пуховые шали, кожаную обувь,… от кузницы имел доход 500 рублей», «Дремин Егор – получает большой заработок (около 500 рублей)»95 и т. д.
Собраний, проводившихся в 1931 году немного, поэтому сведения о психологическом климате в селе скупы. Но на собраниях отчетливо прослеживается два направления – агитация за колхоз, выполнение плановых заданий и наступление на зажиточных граждан. Общие задачи были сформулированы так: «добиться 80% вступления в колхоз крестьян, выполнить и перевыполнить плановые показатели, добиться первого места в районе, сто процентов ликвидировать неграмотность»96. Итоги прожитого 1931 года были подведены в конце декабря. Планы явно не выполнены: коллективизировано только 82% хозяйств, «за последнее время роста колхоза нет», план хлебозаготовок по сельскому Совету выполнен на 70%, «кулацкие хозяйства только на 12%»97.
Особенностью крестьянских собраний в 1931 году является эмоциональная сдержанность крестьян, стремление отмолчаться, не высовываться.
Собрания бедноты сыграли свою «историческую роль» в утверждении власти сталинского аппарата в деревне. Собрания показывают, что путь к благосостоянию народа власти видели не в развитии альтернативных сельскохозяйственных производственных общин, а в создании колхозов с жесткой регламентацией. В создаваемой социальной структуре общество не находилось места зажиточным людям, создавшим свое благополучие трудом, а беднейшее крестьянство выступило вершителем их судеб. В годы коллективизации лексикон крестьянства пополнился многими новыми словами, характеризующие сложную социально-психологическую обстановку в деревне: «ликвидировать, изжить, выселить, предать суду, уничтожить», и т. д.
Собрания бедноты чем-то напоминают хорошо поставленный политический спектакль, где исполнители главных ролей беднейшие крестьяне блестяще сыграли постановку Сталина и правительства.
60
КПСС в резолюциях… М., 1984. Т.3. С.415.
61
НА РБ. Ф. Р-2951. Оп.1. Д.22. Л.8.
62
Там же. Л.5.
63
Там же. Л.8.
64
Там же. Л.5.
65
Там же. Л.8.
66
Там же. Л.12.
67
Там же. Л.17,22.
68
Там же. Л.54.
69
Там же. Л.56—57.
70
Там же. Л.62,65—66 об.
71
Никольский С. А. Власть и земля. М.,1990. С.188.
72
Статья 107 УК РСФСР: «Злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или не выпуска таковых на рынок – лишение свободы на срок до одного года с конфискацией всего или части имущества или без таковой. Те же действия при установлении наличия сговора торговцев – лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества». УК РСФСР. М., 1932. С.56.
73
НА РБ. Ф. Р-2951. Оп.1. Д.22. Л.70.
74
Там же. Л.71.
75
Там же. Л.72, а, б, в, г, д, е.
76
Там же. Л.74—74 об.
77
Там же Л.75.
78
Там же. Л.97.
79
НА РБ. Ф. Р-2951. Оп.1. Д.1. Л.6.
80
Правда. 1930. 2 марта.
81
Верт Н. История советского государства. 1900—1991. М., 1992. С.19.
82
НА РБ. Ф.Р-2951. Оп.1. Д.2. Л.22об.
83
Там же. Оп.1. Д.1. Л.14.
84
Там же. Оп.1. Д.2. Л.14.
85
Рогалина Н. Л. Коллективизация: уроки пройденного пути. М.,1989. С.154.
86
НА РБ. Ф.Р-2951. Оп.1. Д.1. Л.15.
87
Рогалина Н. Л. Коллективизация… С.154.
88
НА РБ. Ф.Р-2951. Оп.1. Д.1. Л.15.
89
Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 1929—1932 гг. М., 1989. С.496.
90
НА РБ. Ф. Р-2953. Оп.1. Д.6. Л.13—38.
91
НА РБ. Ф. Р-2930. Оп.3. Д.1. Л.3,8,20,25.
92
НА РБ. Ф. Р-2951. Оп.1. Д.1. Л.24об.
93
Там же. Л.25об.
94
Документы свидетельствуют. С. 25.
95
НА РБ. Ф. Р-2951. Оп.1. Д.1. Л.23., Л.27. -27 об.
96
Там же.
97
Там же.