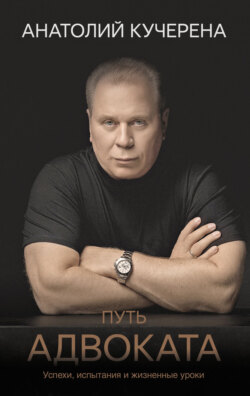Читать книгу Путь адвоката. Успехи, испытания и жизненные уроки - А. Г. Кучерена - Страница 4
Родом из СССР
ОглавлениеА теперь расскажу о себе. О своем пути к успеху – пусть и весьма относительному.
Я родился в СССР – стране, которой не существует уже так давно, что многие молодые люди, не сильно интересующиеся историей, порой и не помнят, что она когда-то вообще была. В то же время граждане моего поколения до сих пор напряженно размышляют о том, чем она была и почему ее не стало. И могла ли она в каком-то виде сохраниться.
На мой взгляд, распространенная ошибка заключается в представлении о том, что СССР был чем-то неизменным, раз и навсегда данным. Между тем СССР в разгар НЭПа – это одно, СССР пика сталинского террора – это совсем другое, СССР блаженных времен «оттепели» – это третье, а СССР периода т. н. застоя и накануне перестройки – это четвертое. При том, что основополагающие «столпы» советского строя – однопартийная система, господство коммунистической идеологии, плановая экономика сохранялись. Однако со временем эти «столпы» существенно видоизменялись.
В позднем (подчеркиваю – позднем!) СССР было немало достоинств и не меньшее число пороков и недостатков, так что любить его или не любить – это дело вкуса, менталитета, личных пристрастий. Но нельзя не признать за ним одну важнейшую черту: в СССР существовали эффективные социальные лифты, позволяющие ребенку из глухого заполярного поселка или горного аула стать академиком, народным артистом, писателем, конструктором, военачальником, да почти кем угодно! Без этого мне вообще бы ничего не светило.
Недавно я перечитал скандальный и невероятного популярный во времена моей юности «антидиссидентский» роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», парадоксальным образом предсказавший многие процессы идейного перерождения советской творческой элиты времен гласности и перестройки. Этот роман породил к жизни несколько остроумных пародий, вызвал бурное негодование либеральной части интеллигенции и настороженное отношение партийных верхов. Кочетов был убежденным сталинистом, в отличие от большинства своих коллег всерьез верившим в построение коммунизма. Но что такое коммунизм? Большинство из нас в свое время воспринимало этот утопический строй прежде всего через призму изобилия материальных благ: «каждому по потребности». Кочетов смотрел на это несколько шире. «Коммунистическое общество, – писал он, – снимает с человека заботу о куске хлеба, о завтрашнем дне. Но материальное изобилие не самоцель, а лишь путь к тому, чтобы все свободнее и свободнее становилась мысль человека, чтобы развивались его способности, его таланты, чтобы каждый, кто хочет исследовать океанские глубины, получил возможность для этого; чтобы каждый, кто хочет стать селекционером, стал им; чтобы каждый, имеющий склонность к музыке, к живописи, стал музыкантом и художником; чтобы каждый, способный делать это лучше других, мог стать управляющим производством, государственным деятелем, распределителем материальных благ.
Может все это обеспечить каждому человеку в своей стране капитализм? Может он сделать так, чтобы не было ни хозяев, ни работников, может он сделать так, чтобы каждый в стране был хозяином, творцом; может отказаться от главного своего принципа: тысячи работают, а единицы присваивают результаты их труда, оставляя тысячам возможность достигать лишь такого идеала – квартирка, домик, два куста роз, иллюстрированный журнальчик в воскресенье? Если да, если может, то пусть здравствует капитализм.
Если не может, если все-таки одни будут владеть предприятиями и землей, а другие на них работать, то, как бы ни хороши были газоны вокруг чистеньких домиков, придется – хочешь не хочешь – отдать предпочтение другому устройству общества».
К сожалению, по-видимому, данный идеал недостижим ни при каком строе. Быть творцом, созидателем, первооткрывателем – удел немногих. Хотя СССР в какой-то мере подошел к этому идеалу.
Благодаря государственной поддержке в СССР, например, была лучшая в мире шахматная школа и школа переводчиков. И это не удивительно. Каждый ребенок с детства мог совершенно бесплатно осваивать игру в шахматы в каком-нибудь Доме пионеров, а если он показывал выдающиеся результаты, государство давало ему возможность профессионально заниматься шахматами, обеспечивая его некоей «стипендией». Хотя были и те, кто, подобно Михаила Ботвиннику, совмещали шахматную карьеру с успешной научной деятельностью. На Западе было даже невозможно представить, чтобы государство платило кому-то за игру в шахматы. То же относилось, кстати, и ко всем другим видам спорта – так что неудивительно, что советским спортсменам, как правило, не было равных – разве что футболисты нас порой разочаровывали.
На Западе практически нереально прожить за счет переводов художественной литературы. Те, кто читал роман Марио Варгаса Льосы «Приключения дрянной девчонки», возможно помнят, как главный герой – профессиональный переводчик на различных международных форумах, великолепно знающий несколько языков, но при этом едва сводящий концы с концами, получает за свои переводы рассказов Чехова на испанский сумму, достаточную для одного посещения кафе. А в Советском Союзе успешные переводчики были вполне прилично обеспечены. И поскольку знание языков было еще и престижно и открывало пути к заграничным путешествиям, желающих овладеть этой специальностью было немало – вспомним, какими были конкурсы в институты иностранных языков. Кстати, между различными школами перевода шла ожесточенная борьба и процветала полнейшая свобода самой разнузданной критики.
Зарубежным читателям «Мастера и Маргариты» описание «дома Грибоедова» с его изобилием экзотических материальных благ может показаться плодом буйной писательской фантазии – ведь на Западе процветать за счет писательского ремесла могут лишь немногие знаменитости. Однако в СССР те, кому довелось стать членом Союза писателей (а таковых были тысячи!), могли не беспокоиться о хлебе насущном и спокойно заниматься творчеством. И это стимулировало приток талантливых людей в литературу и поэзию.
Кстати, можно смело утверждать, что ни в одной стране мира поэзия не занимала такого места, как в СССР. Евгений Евтушенко отнюдь не преувеличивал, когда писал:
Наследников Сталина, видно, сегодня не зря
хватают инфаркты. Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время, в котором пусты лагеря,
а залы, где слушают люди стихи, переполнены.
В самом деле, где еще, кроме как в СССР, поэтические вечера собирали полные стадионы, как это было в 60-е годы? И это создавало особую, неповторимую атмосферу, которую и сегодня вспоминают с ностальгией даже те, кто был предельно далек от идеализации советского строя.
Изначально СССР претендовал на то, чтобы указать светлый путь в коммунистическое будущее всему человечеству. Для страны, которая так и не смогла обеспечить своим гражданам ни широкий выбор товаров и услуг, ни свободу перемещения по миру, не говоря уже о политических свободах, эта претензия казалось странной. Тем не менее, как это ни удивительно, по некоторым показателям СССР и в самом деле был «впереди планеты всей». И не только по количеству ядерных боезарядов на стратегических и тактических носителях или по атомным ледоколам. Было еще и кое-что другое, что сегодня представляется весьма удивительным и чему я лично был свидетелем. В СССР времен моей юности не было безработицы. В СССР 60–80-х годов практически не было нищих. Все пожилые люди получали пенсию, и этой пенсии в большинстве случаев хватало на вполне приличную жизнь. Другой момент, что понятие об уровне этой жизни в те времена были иные. Бесплатные пионерские лагеря, санатории, профилактории, путевки на курорты, переселение десятков миллионов людей из бараков и лачуг пусть и в индустриальное, но отдельное, благоустроенное, а главное – тоже бесплатное жилье, огромное количество льгот очень широкому спектру населения, бесплатное образование – все это отнюдь не мифы советской пропаганды.
Конечно, людям хотелось большего – свободы заниматься бизнесом, высказывать любые взгляды, читать любые книги, смотреть любые фильмы, путешествовать по всему миру. Но все это возможно лишь при наличии неких базовых социальных гарантий – «пирамиду Маслоу» никто не отменял.