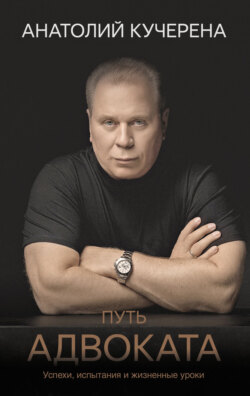Читать книгу Путь адвоката. Успехи, испытания и жизненные уроки - А. Г. Кучерена - Страница 6
Такая недостижимая справедливость
ОглавлениеВ школе я любил литература и физику. Однажды даже принял участие в районной Олимпиаде и занял второе место. Любил и химию – но в меньшей степени. О профессии юриста я тогда практически ничего не знал и о подобной перспективе и вовсе не задумывался. Хотя уже тогда у меня было обострено то чувство, которое с детства заложено в каждом из нас, просто у многих оно со временем притупляется – чувство справедливости. Мне нравилось разрешать конфликты среди детей, выступать своего рода «третейским судьей», мирить врагов. Те, у кого это чувство остается на всю жизнь, иногда становятся адвокатами.
Как мне кажется, я впервые столкнулся с несправедливостью очень рано – это было в первом классе начальной школы. Мы проходили букварь. И то ли мне не понравился учитель – такой высокий, худой, помню, как сейчас, его звали Сергей Александрович, то ли я ему, но у нас возник какой-то конфликт. И тогда он вдруг взял букварь и ударил меня им по голове. Букварь развалился. Сказать, что я был потрясен – значит, ничего не сказать. Наверное, правильно замечено в сказке Джеймса Барри «Питер Пэн», что ребенок никогда не может забыть первой в своей жизни несправедливости, совершенной против него. Я с отсутствующим видом досидел урок до конца, а после школы, придя домой, ничего не сказал родителям об этом случае. На следующий день я, как обычно, взял ранец и вышел из дома, но в школу не пошел, а целый день бродил в одиночестве по полям. Вернувшись домой, я опять ничего не сказал родителям. Но, видимо, кто-то видел меня и «настучал» моей маме. Когда я вышел из дома на следующий день, она проследила за мной. И нашла меня посреди кукурузного пуля. Помню, как она бегала за мной с каким-то прутом в руке, пытаясь схватить за ранец. А я изворачивался как мог. Конечно, потом она пошла со мной в школу, поговорила с учителем, и недоразумение было вроде бы улажено. Но в голове у меня после этого случая как-то крепко засело: не все правильно в этом мире, даже те люди, которые, казалось бы, призваны олицетворять доброту и благородство, могут быть грубыми, несправедливыми, жестокими. И с этим пока еще ничего нельзя поделать.
Другой случай несправедливости, правда, лично меня никак не касавшейся, произошел, когда я учился в десятом классе средней школы, и оказал глубокое влияние на всю мою последующую жизнь.
У нас, как и у всех советских школьников, был предмет под названием «История СССР». Особого интереса он у меня не вызывал, поскольку учебник истории, как я теперь понимаю, был написан очень сухо и казенно. Казалось, что история развивалась по какому-то заранее написанному сценарию: в ней не было места поиску, сомнению, колебаниям: «партия Ленина, сила народная, нас от победы к победе ведет». И никуда от этого было не деться. Мне тогда казалось, что наша история какая-то суховатая, а вот французская и английская, напротив, чрезвычайно интересные.
Но тогда, в десятом классе, одно обстоятельство в учебнике советской истории меня как-то «зацепило», поскольку было связано с реальным конфликтом. В учебнике неоднократно упоминались лидеры различных «левых» и «правых» «антиленинских» оппозиций – Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Томский, Пятаков. Все они, если верить учебнику, начиная еще с дореволюционных лет, постоянно ошибались, заблуждались и как только могли вредили партии и Ленину и при этом не совершали совершенно ничего хорошего.
Здесь было какое-то неразрешимое противоречие: коль скоро эти люди были столь плохи и опасны, почему «гениальный», «прозорливый», «никогда не ошибавшийся» Ленин вообще терпел их, почему он не добился их отставки, исключения из партии или даже чего-то худшего? И вообще, каким образом они проникли в большевистскую партию, что их туда привело? Ведь состояли они в ней еще с дореволюционных лет, когда членство в партии, призывавшей к свержению царского строя, не могла принести никакой выгоды.
В нашей школьной библиотеке были повсюду разбросаны белые брошюрки со статьями Ленина. Одна из них называлась «Письмо к съезду». К моему удивлению, в этом письме я нашел ленинские характеристики упомянутых деятелей. Сказать, что они меня удивили, – ничего не сказать! Оказывается, Троцкий был «самым способным» человеком в ЦК, а Бухарин – не только «крупнейшим и ценнейшим теоретиком партии», но и «любимцем все партии». Тем страннее выглядело примечание в брошюре, где говорилось, что Бухарин был исключен из партии и впоследствии осужден. Неужели Ленин так фатально заблуждался в людях?
В школьной библиотеке был комплект изданной в начале 60-х годов исторической энциклопедии: я поискал фамилии «Троцкий», «Бухарин» и «Зиновьев», но ничего не обнаружил. Это было тем более странно: ведь даже из школьного учебника было понятно, что эти люди занимали в советском государстве очень высокие посты. При этом в той же энциклопедии были упомянуты какие-то совсем уж мелкие партийные деятели, которых не было в учебнике истории.
Но однажды в той же школьной библиотеке я обнаружил старую книгу в твердом, слегка потрепанном переплете. Называлась она «Судебные речи». Это были выступления на судебных процессах прокурора СССР А. Я. Вышинского. Не скажу, что я «проглотил» эту книгу от начала до конца, многое мне было совершенно непонятно, но все же она меня поразила. Из речей грозного прокурора, о котором нам ничего в школе не рассказывали, вырисовывалась кошмарная картина: оказывается, те самые лидеры оппозиций, судьба которых меня заинтересовала, не просто совершали ошибки и тащили партию не туда, они были еще и агентами иностранных разведок, убийцами и террористами: организовывали крушения поездов на железных дорогах, занимались вредительством на предприятиях, провоцировали кулацкие восстания, по их указанию были убиты Куйбышев, Киров, Менжинский, А. М. Горький и его сын Максим Пешков, они готовили покушения на Сталина и Ворошилова и даже в свое время намеревались убить Ленина!
До сих помню почти наизусть заключительную часть одной из этих речей: «Нет слов, чтобы обрисовать чудовищность совершенных подсудимыми преступлений… Весь народ теперь видит, что представляют собой эти чудовища… Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов! Требует наш народ одного: раздавите проклятую гадину!
Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь рядом со мною, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили!..
Я обвиняю не один! Я обвиняю вместе со всем нашим народом, обвиняю тягчайших преступников, достойных одной только меры наказания – расстрела, смерти! Взбесившихся собак я требую расстрелять – всех до одного!»
Об этих страшных речах я думал не один вечер, не решаясь ни к кому обратиться за разъяснением. В самом деле, если эти люди совершили такие ужасные преступления и эти преступления были разоблачены, то об этом должно было быть написано во всех учебниках истории, об этом должны были быть сняты художественные фильмы, написаны книги, а те, кто вывел на чистую воду этих ужасных злодеев, должны почитаться всеми как великие герои. Но этого почему-то не было. В библиотеке я еще нашел книгу, изданную в 60-е годы, называлась она, кажется, «Крушение антисоветского подполья в СССР». Там речь шла о «Шахтинском деле», «Промпартии», но о преступлениях бывших партийных вождей ничего не говорилось.
«Тогда что же остается? – думал я. – Только одно: эти люди не были виновны в тех ужасных делах, в которых их обвиняли». Но тогда, получается, что виноваты другие: те, кто расследовал эти мнимые преступления, кто предъявлял им обвинения, те, кто поддерживал эти обвинения в суде, те, кто выносил несправедливые приговоры. И, наконец, те, кто упорно замалчивал и замалчивает все это. Виноваты все. Вся страна, получается.
Но это было еще не все. Коль скоро эти люди были ни в чем не виновны, они должны были заявить об этом на суде – не могли не заявить. Из речей Вышинского, однако, можно было заключить, что все подсудимые признавали свою вину, за исключением разве что каких-то деталей. Это было уже совершенно непостижимо. Кто и что могло заставить их сделать это? Неужели пытки? Но мне было даже страшно представить, что какие-то советские службы могли применять пытки.
После этого я еще раз решил заглянуть в историческую энциклопедию. К моему удивлению, некоторые из подсудимых, о «злодействах» которых говорил Вышинский, в энциклопедии были упомянуты, причем во вполне позитивном смысле. Например, Крестинский. О нем было сказано: «незаконно репрессирован». Значит, все обвинения в его адрес были ложными! Тогда я поискал фамилию «Вышинский». О нем было как-то туманно сказано, что его теоретические труды послужили обоснованием нарушениям социалистической законности.
«Как же так, – думал я, – этот негодяй, как какой-нибудь гестаповец, отправлял на смерть ни в чем не повинных людей, но об этом ничего не сообщают, а пишут о каких-то его теоретических ошибках. Ничего себе „ошибки“»!
Наконец, окончательно запутавшись, я решил обратиться с этими вопросами к нашему учителю истории. Его имени-отчества я почему-то не запомнил. Подловив его где-то в коридоре, я изложил ему свои мучительные сомнения. По мере того как я говорил – несвязно и сбивчиво, – его лицо все более мрачнело.
– И где же ты взял такую книгу? – наконец спросил он.
– У нас в библиотеке на полке лежала.
– И зачем ты ее взял? Разве я или кто-нибудь еще советовал ее прочитать?
– Нет, никто не советовал. Но теперь я прочитал и хочу узнать, что же это было?
– Об этом мы никогда не узнаем, – ответил он, давая понять, что разговор закончен. – И тебе не советую этим интересоваться, если ты не хочешь, чтобы у тебя были в жизни большие неприятности.
На следующий день, придя в библиотеку, я не нашел там книги Вышинского. Вот тогда я, кажется, впервые усомнился в справедливости советского строя.
«Значит, – размышлял я, – в нашей жизни есть что-то такое, о чем говорить нельзя? Но почему? Скрывают только нехорошие дела. А здесь, судя по всему, речь шла о каких-то ужасных преступлениях, о которых нам почему-то не хотели говорить правду».
Мои родители здесь мне помочь не могли. У отца образование составляло всего четыре класса румынской школы, у мамы и того не было. Хотя отец, работавший разнорабочим и в свое время мечтавший стать агрономом, в свободное время любил читать. Но все же вряд ли имело смысл обсуждать с ним эту проблему.
Один из моих приятелей под большим секретом рассказал мне, что он слушает по вечерам зарубежные радиостанции, правда, его интересовали главным образом музыкальные передачи. У нас дома был хороший приемник «Ригонда» с двумя коротковолновыми диапазонами. Иногда, глубоко за полночь, возвращаясь с работы (в десятом классе мне приходилось подрабатывать грузчиком, на хлебозаводе, в магазине), я включал его и слушал Би-би-си, «Немецкую волну», «Голос Америки», иногда даже «Свободу». В советское время эти передачи глушили, но у нас они, как правило, были неплохо слышны. Однажды одна из этих радиостанций в течение нескольких вечеров подряд передавала отрывки из книги одного английского историка, чье имя я в то время не запомнил, которая называлась «Большой террор». Позднее я узнал, что его звали Роберт Конквест. И хотя у меня не было возможности слушать эти передачи каждый вечер, даже того, что я услышал, было достаточно, чтобы заронить во мне еще большие сомнения относительно истории той страны, в которой я жил. Конечно, если бы я не читал речи Вышинского, я мог бы подумать, что все, сказанное в книге «Большой террор», – антисоветская пропаганда. А так все складывалось в некую единую картину. Получалось, что не только «заблудшие» партийные вожди, но и сотни тысяч других, ни в чем не виновных советских людей, были незаконно репрессированы – расстреляны, отправлены в лагеря, сосланы. Нет, конечно, мне доводилось иногда встречать в книгах упоминания о «нарушениях социалистической законности» в 30-е годы, в том же школьном учебнике упоминался XX съезд и постановление «О культе личности и его последствиях», но я и представить не мог, что эти репрессии разворачивались в таких чудовищных масштабах и что они привели едва ли не к тотальному уничтожению ведущих деятелей большевистской партии, сподвижников Ленина.
Уже после знакомства с книгой Конквеста я неожиданно нашел подтверждение тем ужасам, о которых в ней рассказывалось. И не где-нибудь, а в советской философской энциклопедии. В статье «Культ личности» там говорилось: «Старые большевики, особенно те, кто помнил ленинское „Завещание“, понимали ненормальность складывавшейся обстановки. Как выяснилось много лет спустя, в дни XVII съезда ВКП (б) (1934) у некоторых делегатов возникла мысль о смещении Сталина с поста генерального секретаря; при выборах в ЦК некоторые делегаты проголосовали против Сталина. После съезда Сталин принял свои меры, уничтожив больше половины участников XVII съезда: 1108 из 1966 делегатов. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде, погублено 98 человек. С каждым годом репрессии усиливались, Сталин все шире и настойчивее действовал через карательные органы, вывел аппарат госбезопасности из-под контроля партии и лично сам, через специально подобранных людей, направлял его деятельность».
В результате мое представление об СССР, как о самой справедливой стране мира, было сильно поколеблено, но было бы преувеличением сказать, что я стал каким-то диссидентом. Я оставался обычным советским молодым человеком. Но какая-то дополнительная «аллергия» на несправедливость у меня возникла.