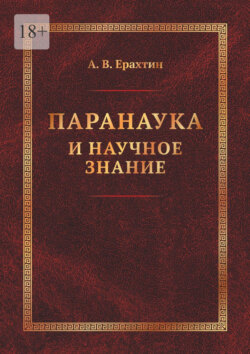Читать книгу Паранаука и научное знание. Критические очерки - А. В. Ерахтин - Страница 4
Глава 1.
Специфика научного знания и паранаука
2. Наука и паранаука
ОглавлениеНаука своими открытиями, регулярно нарушающими привычное мировосприятие, внушила массовому сознанию, что в принципе все возможно – даже то, что совсем недавно казалось абсолютно нереальным1. В результате, один из парадоксов современной цивилизации состоит в том, что чем быстрее и успешнее развивается наука, тем чаще ломаются привычные схемы восприятия, тем меньше у массового сознания остается стабильных точек опоры, а значит, тем большие возможности открываются перед паранаукой. С ростом научных знаний возникают новые вопросы, граница между познанным и непознанным не уменьшается, а увеличивается. Паранаука паразитирует на факте бесконечности мира непознанного.
Развитие науки сопровождается борьбой идей, выдвижением различных гипотез. Поскольку истина одна, а гипотез обычно бывает много, то большинство из них в конце концов отвергаются. Но, конечно, называть эти не подтвержденные гипотезы лженаучными до полного установления истины было бы совершенно неверно. Другими словами, те или иные представления, гипотезы и теории становятся лженаучными только тогда, когда их продолжают отстаивать и после того, когда их научная несостоятельность надежно установлена.
Наука не гарантирована от ошибок и заблуждений. Поэтому критическое отношение к полученным результатам и их объективная проверка и перепроверка обязательна для научного творчества. Впрочем, сама наука обладает внутренним механизмом защиты от лженауки. Эти механизмы заложены в самой структуре науки как социального феномена. Среди них: публикации, публичное обсуждение научных работ, конференции, семинары, институт рецензирования статей, экспертная оценка. Наконец, постоянно существующая конкуренция между учеными и научными группами, приводит к тому, что на любое заметное открытие тут же «набрасываются» значительные силы исследователей и если это открытие оказалось ошибкой или фальсификацией, то данный факт через какое-то время обнаруживается.
Важным критерием отличия ученого от псевдоученого служат творческие автобиографии людей, занимающиеся наукой, которые являются обязательными при приеме на работу за рубежом, а у нас почему-то заменяемые трудовыми книжками. По автобиографиям (их, конечно, можно сфальсифицировать, но можно и проверить) не всегда можно оценить научный уровень ученого: много публикаций, например, может иметь и бездарность. Но по ним всегда можно безошибочно судить о том, принадлежит человек к научному сообществу или нет, и данный вид информации способен служить своего рода социальным критерием принадлежности к науке.
Помимо ошибок и непреднамеренной фальсификации научных данных, в науке, особенно современной, имеет место также и откровенная фальсификация, и мошенничество. Соблазн совершения подлога является оборотной стороной современной научной организации: системы грантового финансирования и формальных критериев оценки работы ученого. Существует и такой момент, связанный с разграничением того, что есть наука, а что – лженаука. Он связан с нарушением принципа бритвы Окамма. Последний заключается, как известно, в том, что не нужно умножать число сущностей без надобности. Не нужно для объяснения чего-либо привлекать дополнительные сущности, если это можно объяснить меньшим их числом. Данный принцип является одним из основных методологических принципов современной науки, но часто не ясно, можно ли в данной конкретной ситуации обойтись имеющимися сущностями, или необходимо вводить новые. И часто к лженаукам относят теории, в которых вводится такая «лишняя» сущность. Например, теория эфира, как альтернатива специальной теории относительности.
В истории науки ей всегда противостояла паранаука. Острота споров часто связана не с невозможностью проведения четкой грани между наукой и лженаукой, а с субъективной невозможностью признания сторонниками паранауки своего фиаско, поскольку это означало бы отказ от многолетних и, обычно широко рекламируемых амбиций, а в случае явного мошенничества влекло бы за собой даже уголовную ответственность. Академик Е. Б.Александров пишет: «Эти обстоятельства обуславливают ожесточенное сопротивление лженауки и ее агрессивность, в то же время как мотивация к спору противной стороны ослабляется естественным нежеланием профессиональных ученых тратить время на бесплодные споры с фанатиками, невежественными, а, зачастую, недобросовестными оппонентами»2. Кроме того, все козыри оказываются в руках лженауки, поскольку средства массовой информации, падкие до сомнительных сенсаций, а то и просто, купленные, переполнены лженаучными измышлениями и клеветническими нападками на «косную официальную науку», «препятствующую прогрессу», в то время как сама эта «официальная» наука может возразить лишь в своих собственных изданиях с ничтожным тиражом. В добавок к этому, представители наиболее активных направлений паранауки широко пользуются связями во властных структурах, структурах обороны и безопасности.
Конечно, не все сторонники «ложных научных идей» преследуют корыстные цели. Есть искренне заблуждающиеся, есть не вполне здоровые люди. Иногда ученый не выдерживает больших умственных нагрузок, возникают психические отклонения, хорошо известные в психиатрии «измененные состояния сознания». Нередко авторами различных лжеучений становятся люди, страдающие вялотекущей параноидной шизофренией. Такие ученые, увлеченные той или иной идеей, претендуют на радикальное изменение научной картины мира, не имея на то достаточных оснований. Они апеллируют к власти, обращаются через СМИ к общественному мнению, которое начинает поддерживать это «открытие». Такие люди не обязательно прагматичны – они могут быть убеждены, что сделали переворот в науке, хотя этого никто не признает.
Например, еще в XIX – начале XX вв., когда было открыто рентгеновское излучение, в науке возникло целое направление поиска новых типов излучений. Французский ученый Блондло объявил об открытии им так называемых N-лучей. По его мнению, некоторые металлы, например алюминий, излучают N-лучи самопроизвольно, и эти лучи усиливают при определенных условиях освещенность окрашенных поверхностей. Все газеты Парижа писали о «выдающимся открытии Блондло». Ему даже дали золотую медаль Парижской академии. А разоблачил его известный экспериментатор Р. Вуд, который попросил Блондло продемонстрировать ему опыты. В процессе демонстрации Вуд незаметно взял алюминиевую призму, которая якобы была источником N-излучений, и положил ее себе в карман – а Блондло между тем все повторял, что по-прежнему регистрирует излучение. После такого разоблачения ему пришлось вернуть золотую медаль, и этот бедный человек сошел с ума, окончив жизнь в психиатрической клинике.
Защитники паранауки заявляют, что многие передовые идеи встречали в свое время сопротивление, а их авторы подвергались гонениям. Действительно, таких примеров в истории науки предостаточно. Французская академия наук времен Наполеона, долгое время отказывалась принимать к рассмотрению любые сообщения о «небесных камнях» – метеоритах, научное сообщество математиков сопротивлялось первым попыткам построить неевклидовы геометрии. Так было и с учением о теплороде. Когда-то считалось, что при помощи жидкости с таким названием тепло передается от одного предмета к другому. Но в дальнейшем выяснилось, что никакого теплорода нет, а есть просто кинетическое движение частиц тела или предмета. Люди, придумавшие теплород, не были лжеучеными. Ведь кинетическая теория теплоты еще не победила.
В 1920-е годы в ходе попыток разработать строго экспериментальные методы контроля над разного рода «экстрасенсорными» явлениями популярными стали понятия «парапсихология» и «паранормальные» явления. «Идея парапсихологов заключалась в том, чтобы с использованием лучших методов экспериментальной науки и статистики доказать существование ясновидения, телепатии, предвидения и психокинеза… Парапсихология как область знания оказалась очень сомнительной. Многие ее критики утверждают, что с момента возникновения она достигла лишь незначительного прогресса, если такой был вообще, и что парапсихологи не смогли продемонстрировать реальность ЭСВ или ПК. Они даже ни разу не смогли экспериментально воспроизвести однажды полученный, по их мнению, результат, который мог бы убедительно снять множество вопросов»3.
Термин «паранормальный» вышел за пределы парапсихологии. Это понятие стало относиться ко многим явлениям, которые якобы невозможно описать в рамках существующих научных теорий и поэтому рассматриваемых как мистические или необъяснимые. «Круг таких явлений оказался весьма широк: перевоплощение, телепортация, левитация, астральное прогнозирование, хождение по раскаленным углям, психоцелительство, одержимость темными силами и т. д. Но процесс не стоит на месте. Сегодня в круг этого рода явлений оказались включены такие захватывающие воображения случаи, как похищение людей инопланетянами, свидетельства посещения Земли древними космонавтами, зависимость между профессиональными достижениями человека и конфигурацией планет в момент его рождения и много подобных псевдонаучных доктрин и практик, таких как нумерология, карты Таро и биокосмические ритмы»4.
Проблема двойственного отношения к тому, что называют терминами «лженаука» и «настоящая наука», существовала всегда. Сколько теорий, поддержанных авторитетом ведущих академий наук, оказались ложными? В связи с этим очень важным является вопрос о дифференциации околонаучного знания. Оказалось, что конкретные примеры околонаучного знания: пара-, псевдо-, квази-, антинауки вызывают большее единство мнений ученых, чем определение этих понятий. На Западе широкое распространение получила работа американского специалиста по философии науки Дж. Холтона «Что такое антинаука». Холтон пишет, что в антинауку входит патологическая наука, псевдонаука, сциентизм. Но в то же время он считает, что нет какой-то особой антинаучной культуры в том смысле, который был бы противоположен науке как типу научной деятельности. Ведь никакая картина мира не может быть антинаучной в подлинном смысле этого слова. Поэтому автор считает, что правильнее говорить не об антинауке, а об альтернативной науке, но, чтобы не создавать видимость того, что такие концепции равноправны в онтологическом смысле, более точно называть их паранаукой5.
Неопределенность терминов ведет к тому, что группа разнородных явлений неверно квалифицируется как принадлежащая к одной области околонаучного знания. Например, понятием «лженаука» обозначают как явления, ложность которых доказана, так и те, насчет которых нет определенности, и даже те, которые вовсе не имеют отношения к науке. Действительно, в самом термине «лженаука» слышится заведомое обвинение во лжи, хотя возможно и добросовестное заблуждение. Поэтому в западной литературе обычно пользуются более мягким термином «псевдонаука» или «паранаука».
Термин «лженаука» часто использует В. Гинзбург – нобелевский лауреат по физике 2003 года. По его мнению, лженаука – это научная теория, которая противоречит твердо установленным научным фактам, что заведомо неверно. Но он считает, что «лженаука, как правило, – это историческая категория»6. Например, попытки создать вечный двигатель до того, как было доказано, что это невозможно, не были лженаучны. То же самое можно сказать о теории теплорода и астрологии. Но при таком подходе есть некоторое противоречие: если лженаука – историческая категория, то определение того, что лженаучно, становится делом истории (в момент возникновения нового знания невозможно точно сказать, научно оно или лженаучно). Если же мы утверждаем, что можем определить научность здесь и сейчас на основании того, что новое знание противоречит твердо установленным научным фактам, то это противоречит пониманию лженауки как исторической категории.
В отечественной литературе обстоятельная дифференциация околонаучного знания дана в статье А.М.Конопкина «Особенности структурирования околонаучного знания». Автор приходит к выводу, что с точки зрения этимологии и фактического словоупотребления именно термин «паранаука является более общим понятием, чем псевдо-, лже- и квазинаука», а понятия «лженаука, псевдонаука и квазинаука на русском, греческом и латинском означает одно и то же, и поэтому нет оснований одно из этих понятий ставить над другим»7. Исходя из этого, по нашему мнению, при характеристике околонаучного знания предпочтительнее использовать термин «паранаука».
⠀
1
В действительности из неисчерпаемости познания вовсе не следует, что «все возможно». Наука тем и сильна, что она постоянно узнает не только то, что возможно, но и то, что невозможно. Кроме того, законы природы один раз, установленные наукой, никогда не отменяются при последующем прорыве в глубь неведомого, поскольку каждый вновь открытый закон включает в себя старый, делая его своим частным случаем.
2
Александров Е. Б. Проблемы экспансии лженауки // В защиту науки. Бюллетень №1. 2006. С. 8—9.
3
Куртц Пол. Новый скептицизм: Исследование и надежное знание. Пер. с англ. М., 2005. С. 135.
4
Там же. С. 136.
5
См.: Холтон Дж. Что такое антинаука? // Вопросы философии. 1992, №2. С. 41.
6
Виталий Гинзбург: Я не люблю жулье // В защиту науки. Бюллетень №2. 2007. С. 19.
7
Конопкин А. М. Особенности структурирования околонаучного знания // Известия высших учебных заведений. Поволжский район. Гуманитарные науки. 2009. №3 (11). С. 45—46.