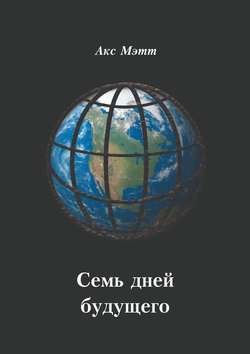Читать книгу Семь дней будущего - Акс Мэтт - Страница 7
Часть I
Камни, песок и нефть
Деревянные горы
Оглавление13.03.2030, 4 часа ночи (местного времени).
Северный Ледовитый океан.
Новосибирский архипелаг
29 часов до временной отсечки «Х»
Медленно, очень медленно наползала чёрная тень на прибрежную отмель…
Неслышно скользя под припайным льдом в миле от берега, огромная, почти плоская лента плавно изменила вертикальное положение на горизонтальное. И уже так, плашмя, слегка извиваясь, точно невероятная минога, продолжила своё таинственное движение.
Остров был метрах в трёхстах, когда глубина под брюхом неведомого обитателя глубин закончилась, и нижний вертикальный плавник то и дело чиркал по неровному скалистому дну, отчего вся громадная плоская туша глухо содрогалась в резонансе. Внешне ЭТО напоминало огромную широкую доску для сёрфинга, глянцево-чёрную, почти в шестьдесят метров длины, но с неожиданно большим утолщением на самом носу и вертикальным, как у акулы, хвостом. Вся разница была лишь в том, что хвостовой плавник большей своею частью был отклонен вниз, и теперь, когда он практически упёрся в дно, дальше продолжать движение незамеченным возможности уже не было. Огромное нечто остановилось и очень плавно и тихо полностью опустилось на грунт…
Абсолютно беззвучно, без пузырей и всплесков от странного объекта отошли два более мелких, по форме и цвету почти копии большого. Такие же плоские и чёрные. Они стремительно направились к острову, а достигнув его, без особых усилий взломали толстый прибрежный сплочённый лёд, рассыпав при этом по его поверхности два коротких снопа голубоватых искр. И уже, явно опасаясь быть обнаруженными в ненадежной оранжево-лиловой пелене густых сумерек, крайне осторожно, но быстро поползли по прибрежной смеси гальки и крупного песка; чуть извиваясь гибкими телами и стремясь как можно быстрее и незаметнее достигнуть глубоких сугробов…
От самого мыса Барроу, что на севере Аляски, и до мыса Челюскин полуострова Таймыр раскинулось гигантское поле Арктического шельфа. Почти пять миллионов квадратных километров ровного подводного плато – напоминание о беспредельных по размерам территориях подтопленного в незапамятные времена мега-материка. Шельфовый стол дна в этой части Ледовитого океана абсолютно однообразен и по структуре и по глубине: на многие сотни миль вдоль бесконечного северного побережья Восточной Сибири исследовательское судно обнаружит под ватерлинией лишь немногим более тридцати-сорока метров воды. Во многих местах и вовсе около пятнадцати. Ни укрыться, ни спрятаться крупному подводному объекту не удастся: огромное поле для гольфа, каждый игрок на котором прекрасно видит и слышит, куда, в какую лунку был послан мяч.
Несколько лет назад, из-за стремительного и безудержно накатившего на арктические зоны глобального потепления, Северный морской путь стал практически круглогодичным. Мощный современный ледокольный флот хозяина здешних морей – России и глобальное изменение климата, не договариваясь, помогая друг другу, превратили его в шикарную трансконтинентальную трассу, настолько скоростную, что суда с Дальнего Востока проходили по нему в Атлантику почти в два раза быстрее, чем южным маршрутом, через Суэцкий канал. За навигацию же и безопасность вдоль всего пути следования отвечали многочисленные посты береговой охраны, снабжённые новейшими вооружёнными спасательными судами ледового класса, и военные базы, разбросанные тут и там по всей Арктике. Возведённые по самым современным, практически космическим технологиям знаменитые арктические «трилистники»12 Министерства обороны России, не смотря на лютый холод, расцветали теперь буйным цветом и на материковой части, и на многочисленных океанических островах – в зонах территориальных интересов Федерации.
Вот одним из таких наиболее оживлённых и востребованных мест в Арктике стал теперь архипелаг Новосибирских островов. Открытый русскими мореплавателями ещё в восемнадцатом веке, он был представлен миру при загадочных, почти мистических обстоятельствах: якобы именно отсюда знаменитый промышленник и предприниматель, ярый радетель государственного освоения арктических территорий Яков Санников13 в 1810 году увидел далеко на севере «дымы загадочной земли», впоследствии названной его именем…
Таинственного материка, сколько не искали впоследствии, так и не нашли, а вот территории в этих местах Ледовитого океана попутно изучили хорошо. А теперь и осваивали вовсю.
На острове Новая Сибирь, в отличие от соседнего острова Котельного, не стали строить крупных объектов Министерства обороны и серьёзной инфраструктуры. Он сохранил практически первозданный ландшафт, похожий на вогнутое к центру блюдо, многочисленные реки и озёра. И теперь целиком был отдан на освоение разношёрстной научной братии: Российской академии наук, различным НИИ14, экспедициям геологоразведки и палеонтологам. Пролив Благовещенский, разделивший два этих крупнейших острова архипелага, в самом узком месте имел серьёзных тридцать два километра, поэтому на летний период наладили воздушное сообщение между ними и материком. На Котельном быстро отстроили заново красавец-аэродром «Темп», возведенный здесь ещё в советские времена, но затем незаслуженно заброшенный, превратив его теперь в стратегический – способный принимать любые типы самолётов. Даже сверхтяжёлые транспортники. А вот на соседнем «заповеднике» оборудовали лишь стационарную вертолётную площадку, да и то придали её небольшой мобильной Станции ракетного зондирования атмосферы (СРЗА). Объект стал полновластным наследником скромной метеостанции, расположенной здесь ещё в двадцатом веке и так же, как и она, получил странное, почти романтическое название «Утёс Деревянных гор».
Широты, на которых был расположен архипелаг, всегда отличались суровым нравом: девять месяцев в году здесь лежал снег, и при желании, на материк можно было прокатиться по ледяному «мосту», связывавшему острова с большой землёй с осени по весну включительно, прямо на вездеходе. А у местного лета были свои причуды: хорошо, если околонулевая температура, промозглые моросящие дожди с пробирающим насквозь ветром. Но чаще и этого не получалось. Погода и раньше-то не баловала решившихся обосноваться здесь, а с наступлением серьёзных климатических изменений на всей планете всё чаще и чаще стали наваливаться внезапные запредельные шторма и безудержные вихри. Мир безвозвратно менялся прямо на глазах. И это было уже необратимо.
Снежные бураны неожиданно в ночь засыпали трёхметровыми сугробами всё вокруг, чтобы на следующий день яростные ветры подняли всё это белое безумие и унесли далеко на материк, развеяв там над бескрайними просторами Сибири. Такие бури могли бушевать по неделям, а могли проходить и одним днём. Метеорологи и сейсмологи трудились здесь, не покладая рук, запуская в небо аэростаты и исследовательские дроны, производя хронометраж, различные замеры и анализ геомагнитной обстановки, пытаясь дать точные прогнозы хотя бы на сутки-двое. Их работа была крайне необходима и как никогда важна для всех жителей Арктики.
Но были на станции и другие специалисты, деятельность которых надёжно скрывалась на жёстких компьютерных дисках, сдаваемых ими ежесменно в сейф «особисту», и которую никто из них никогда не обсуждал в присутствии посторонних…
Вот и теперь, в столь позднее время, вернее в этом случае сказать раннее, на СРЗА «Утёс Деревянных гор» кипела работа. Готовились к практической отработке регламента запуска новейшей, самой мощной из имеющихся на сегодняшний день, геофизической резонирующей ракеты. Если расчёты окажутся правильными, эти ракеты смогут успешно противостоять, нейтрализуя их ещё в зарождении, гигантским вихрям и торнадо, которые всё чаще и чаще стали появляться над Сибирью. Там, где их отродясь не видали.
Вся станция, собственно говоря, представляла своеобразный шестиугольник, соединённый между собой гибкими сочленениями коридоров-гармошек. А в центре этой «соты», стоявшей на гидроопорных лыжах, находился круглый модуль с аппаратным залом управления запусками и координацией.
В нём и пребывала сейчас не только дежурная смена: семеро из десяти членов «Особой научной экспедиции номер два» бодрствовали – пятеро были заняты обсуждением технических данных запуска, а оставшиеся двое начинали потихоньку готовиться к отъезду. «Специалисты», в отличие от троих метеорологов, которые в своё время, задолго до остальных исходили здесь все окрестности «автоногами» и знали на острове каждый камешек (и теперь спокойно отдыхали у себя в импровизированном балке), были, что называется, людьми «пришлыми», и по острову пешком практически не передвигались, исследуя и осматривая его исключительно виртуально: сидя в центре координации за пультами управления дронами. Соответственно и нюансы острова Новая Сибирь им знакомы были не особенно. Да и много ли натопаешь по сугробам в полярную ночь за Полярным кругом…?
Само слово «станция», глядя на архитектуру и техническое оснащение именно этого объекта, должно было ассоциироваться отнюдь не с закопанными в снегу хлипкими деревянными сараюшками из дощатых щитов, обогреваемыми примитивными печками-буржуйками на дровах или угле, – что было обычным делом в прошлом веке – или, что ещё несуразнее, со снежными иглу15. Возведённый здесь, пусть и небольшой арктический форпост воплотил в себе все современнейшие технологии, какие только имелись сейчас в наличии у российской науки. Бытовало, кстати, вполне обоснованное мнение, что, опираясь на опыт эксплуатации именно таких модульных городков, учёные-разработчики и технологи уже во всю делают жилые и рабочие городки для лунных и марсианских экспедиций! Ведь условия эксплуатации материалов и систем в Арктике по экстремальности лишь самую малость не дотягивают до космических!
А здесь, внутри такого компактного универсального комплекса, спроектированного, что называется, «по просьбам трудящихся» и оснащенного с учетом всех мыслимых и немыслимых ситуаций, можно было месяцами нормально жить, всецело отдаваясь любимой работе. Даже тренажёры и мини-бассейн не были чем-то экзотическим! Стены, имеющие приятную для глаз любого нормального человека салатово-зелёную окраску, и подсвеченные с разной интенсивностью и оттенками своды коридоров уютно провожали проходящего по ним зимовщика в небольшой, но вполне себе настоящий дендрариум! Сказочный сад настоящих деревьев и растений посреди вечного царства снега и льда! Малюсенький кусочек настоящей весны.
Весна! Наконец-то эта бесконечно-тягучая морозная темнота закончилась, и скоро они увидят свежую зелень молодой листвы в иллюминаторы экспедиционного турболёта, несущего их к дому. Настоящий природный зелёный цвет и солнечный свет были всю зимовку в большом дефиците. И даже обилие фруктов и овощей, что вместе с рабочими материалами регулярно доставлялись им с большой земли, не радовало глаз и душу так, как если бы человек просто коснулся руками обычной березовой ветки в весеннем лесу и всей грудью вдохнул этот слегка пьянящий аромат расцветающей жизни.
Поэтому, не смотря на строгость регламента проводимых сейчас работ, настроение у всей команды было лёгкое, почти предпраздничное и даже слегка бесшабашное. Уже на завтрашний день было назначено окончание всех работ и пересменок: с материка ждали борт с рабочими-ремонтниками и инженерами. Вновь предстояла масштабная модернизация оборудования и расширение площади станции.
Ребята не зря просидели на куске скалы посреди ледяных торосов полгода. Их работа здесь была оценена по достоинству на самом верху…
А эксперименты, проведённые далеко не только с сейсмографами и аэрозондами, признаны настоящим прорывом в науке и технологиях. В частности – технологии компонентов новейшего перспективного ракетного топлива…
Пока же люди собирались и упаковывали вещи. И не только технические средства, приборы и образцы, но и те милые сердцу безделушки, которые долгими полярными вечерами греют озябшую от долгой разлуки душу лучше любой печки. Кто-то снимал со стены фотографии, кто-то сортировал видеозаписи и аккуратно укладывал в контейнеры тетради рукописных дневников и рабочих материалов. Ничто не должно быть утеряно или забыто.
Объект «Утёс Деревянных гор» находился на ближайшей к материку, южной стороне Новой Сибири. Здесь год от года постепенно эррозирующие из-за таяния вечной мерзлоты и обрушающиеся в море берега не были такими крутыми и обрывистыми, в отличие от той стороны острова, что была обращена к Северному полюсу. Выход к морю был более удобным, а береговая полоса самой широкой и пологой. Стартовый стол для проведения пусков резонирующих атмосферных ракет отстоял от самой станции метров на двести и сообщался с ней буквально «подснежным» ходом: лёгкий арочный переход – собирался обычно осенью из составных модульных элементов, а затем его просто заваливало снегом до весны, и он становился почти подземным.
В этом году именно этот предстоящий пуск, как принято говорить у зимовщиков, будет крайним. Да и то учебным: вся предстартовая подготовка должна пройти штатно и без исключений, но вот рабочая кнопка зажигания и ключ электропитания старта будут заблокированы оператором, хотя ракета уже стояла на столе и находилась в направляющих. Таково было решение руководства, озвученное буквально на днях и вызванное, скорее всего, установившейся над регионом нормальной погодой. Старт должен был быть имитационным.
Как стало понятно после серьёзных исследований, тяжёлые резонирующие ракеты, снабжённые электромагнитными импульсными источниками ограниченной мощности, – очень хорошее и действенное средство не только для усмирения буйствующих смерчей и торнадо. Поднявшиеся в стратосферу, они способны локальным и строго заданным образом влиять на великие струйные течения, опоясывающие на этой высоте незримыми потоками всю нашу планету, течения, от которых зависят погода и сама жизнь на всей Земле. И, в отличие от той же самой HAARP на Аляске, делают они это весьма деликатно и контролируемо.
Человеку всегда казалось, что он способен взять под контроль те невероятной силы процессы, что происходят в трёх царствах природы: в воде, на земле и в воздухе. Стоит только написать новую, более совершенную программу или развернуть реки вспять, послать в ионосферу мощный электромагнитный импульс, и природа сразу признает себя побеждённой и сдастся на милость своего «царя».
Ровно так же думает неразумный ребёнок, только что вылезший из яслей и предъявляющий права на отцовское кресло. Такое неразумное ещё, но всегда любимое дитя…
Один из техников, только что закончив проверку предстартовой готовности комплекса и стремясь побыстрее покинуть неуютный, тускло освещенный и узкий тоннель, вбежал в помещение, едва захлопнув за собой дверь на электронном замке, не задвинул впопыхах изнутри механический засов, как этого требовала инструкция…
На этом острове, в отличие от соседнего Котельного, давным-давно уже не видели белых медведей – опаснейших хищников, фактических хозяев Арктики, способных быть смертельно опасными для человека. Их не было видно здесь по крайней мере уже лет двадцать. Зоологи опасались даже, что популяция этого красивого и умного зверя на грани исчезновения. Теперь, когда стали редкостью ушедшие дальше на север огромные плавучие поля пакового льда – основные места охоты медведей на моржей и тюленей, не стало и их самих. Росомаха с конца зимы ушла за оленьими стадами вглубь острова, площадь которого была совсем не маленькой – больше шести тысяч квадратных километров. А случайных людей в это время года на острове быть не могло. Чего ещё здесь было бояться? И на незадвинутый засов внимания никто так и не обратил…
Посреди зала стоял большой квадратный стол с проекционным горизонтальным голографическим 3D-дисплеем, на моделлере которого сейчас была изображена синоптическая картина происходящего в радиусе тысячи километров от этого места, в реальном времени: над малюсеньким клочком земли, в бескрайнем океане, покрытом ледяными полями торосов, клубились и колыхались огромные сгустки облаков, и закручивались гигантские воронки вихрей. Синоптическая информация поступала в компьютер отовсюду: с метеозондов, геофизических ракет, станций слежения и спутников. Анализировалась и систематизировалась, чтобы в виде объёмной голографической проекции предстать перед глазами запросивших её, что называется, он-лайн.
Всё представление было настолько реалистичным и динамичным, что бородатые люди в тёплых свитерах, стоявшие сейчас рядом со столом, смотрели на этот бесконечный интерактивный спектакль, режиссером которого была сама природа, с каким-то восхищенным благоговением. Чудесным образом они могли видеть, как в одной стороне карты стеной идут проливные ледяные дожди, – успевая за время путешествия к земле по несколько раз замерзнуть в ледышки и снова оттаять в капли воды, – а в противоположной – сумасшедший ветер откалывает гигантский кусок ледяного поля и несёт его прямо на другой, ещё больший, с тем, чтобы при встрече два гиганта схлестнулись и выставили напоказ обоюдоострые края своих мощных бивней-оконечностей. А в воздухе над ними ежесекундно колыхались и разбегались обрывки туч и клочья тумана. И то тут, то там мерцали зеленоватые всполохи северного сияния – следы горячего дыхания бессменного хранителя Земли – великой звезды Солнца.
– Так, наверное, смотрит сам Господь Бог с небес на своё любимое детище – планету Земля… – задумчиво теребя бороду, проговорил мужчина средних лет, сильно выделявшийся среди других своим богатырским ростом.
– Да… – согласно кивнул стоявший рядом зимовщик в длинном заношенном синем свитере крупной вязки, – Воистину впечатляет! Не первый раз уже наблюдаю это шоу, но каждый раз – с восхищением! Эта их новая мультисредная система объёмного сканирования – просто какая-то фантастика сегодняшнего дня…
– Чья система? Кого ты имеешь в виду? – удивился рослый бородач.
– Да наших соседей с Котельного, военных. Они уже месяц тестируют оборудование: «грибы» да «лопухи» РЛС16 не видел, что ли на сопках? Вот она и есть. А ты думал, откуда мы данные качаем? Вот, по-шефски помогают нам. Чай, не чужие, свои. – «Вязаный свитер» подмигнул бородатому и, снисходительно улыбнувшись, опять уставился на голограмму.
– А-а! – протянул здоровяк. – Теперь понятно, кто у нас здесь за Бога…
– Кто бы сомневался! – хохотнул «свитер».
– А вот это, что за тёмное продолговатое пятно у берега? Совсем рядом с нами! Такого я никогда раньше не видел, – ткнул пальцем в голограмму парень, видать, самый зоркий и наблюдательный из собравшихся.
– Да кит, наверное? – махнул рукой высокий бородач, совершенно не придавая в данный момент справедливому вопросу должного внимания.
– Ну, если только каким-то чудом его выбросило на отмель. Здесь ему даже нырнуть негде – рылом дно забодает, – подключился к разговору ещё один научный сотрудник, рыжий, сидевший за пультом управления ракетным пуском чуть поодаль и тестировавший все системы автоматики комплекса.
– Вообще-то, для кита, даже для синего, он больно уж большой, как минимум в два раза. Хотя для морских животных гигантизм нынче чуть ли не новомодный тренд, – с улыбкой проговорил обнаруживший аномалию бдительный зимовщик, сворачивая и складывая в тубус карты со стены.
– А я вот тут слыхал, что ихтиологи близки к разгадке массового выбрасывания на берег стай дельфинов и китов. – Рослый обошёл стол и встал поближе к тому месту, где было тёмное пятно предполагаемого «кита».
– Да-да! Точно! – даже вбежавший только что техник не удержался и нашёл всё-таки момент вставить свою скромную реплику в общий разговор:
– Я слышал, что сейчас такие непонятные явления заметно участились. Особенно в южной части Тихого океана. «Зелёные», чтобы спасти животных, тащат их обратно в море, а те с ослиным упрямством не хотят возвращаться. Вот так штука! Будто боятся там кого…
– Господи! Да кого же им там бояться? – искренне удивился бородач в поношенном свитере. – Сами, чай, не маленькие!
– Ну, тогда если только кого-то сильно плотоядного, – также задумчиво теребя бороду, проговорил великан. И, посмотрев на рядом стоявшего в заношенном свитере товарища, едва доходившего ему до груди, добавил:
– И кто явно крупнее их самих… – и опять с интересом возвратился к неподвижному тёмному объекту на голограмме.
Заинтригованный новой темой, народ в комнате заметно оживился, и, подняв головы от своих занятий, мужики смотрели теперь на выделяющегося габаритами коллегу, стараясь ничего не пропустить из его слов.
– Так вот, о чём это я, – возвращая разговор в своё русло, продолжил великан. – Было замечено, что непосредственно перед якобы массовой потерей ориентации морскими млекопитающими … – он подмигнул слушавшим его. – Ну, это по официальной версии, некие крупные объекты неизвестного типа или животные внезапно появляются у тех на дороге и отрезают им путь на глубину. Беднягам остаётся единственное – выброситься на отмель. Смогли рассмотреть лишь один такой объект более-менее чётко, и только на снимке из космоса.
– Ну и что это было? Несси, что ли? – коротко хохотнул рыжий, явно имея в виду легендарное лохнесское чудовище, наделавшее в своё время много шуму и принесшее неувядаемую славу тихому шотландскому захолустью, а заодно и поток фунтов стерлингов местным продавцам сувениров.
Рослый посмотрел на него снисходительно, как умудренный опытом преподаватель на студента-троечника:
– Сам ты – Несси! Нет, – покачав головой, он присел на стул. – Это было нечто очень похожее на огромный цилиндр, но с множеством гибких щупалец с одного конца. Думали сначала, что гигантский арктический кальмар, да только спруты под тридцать метров длиной, кракены, – это в сказках про пиратов. А вот в природе им просто некем было бы питаться, передохли бы, как голодные крысы, – снова покачал лохматой головой великан.
– Ну как же? А вот такими вот как раз китами и будут… э-э, питаться! – махнул рукой в сторону голограммы рыжий.
– А-а… – протянул кто-то из мужиков, – ясное дело, мутанты какие-нибудь. Свято место пусто не бывает! Каждый год на земле исчезают сотни видов животных. Ну, а эти – им на замену. Эволюция!
Последняя реплика вызвала у зимовщиков неодобрительный ропоток. Из угла послышался зычный голос. Обладателем его был чернявый молодой человек противоречивой внешности: жиденькая бородёнка, видать, совсем не желавшая расти, и огромные старомодные очки никак не вязались с атлетической внешностью и весьма уверенной речью:
– Если скоро вообще будет кому-либо и кем питаться… Вы видели, что творится с обрывистыми берегами на северной оконечности острова? Нет? Сидите тут безвылазно от борта до борта по лабораториям. Так взгляните как-нибудь ради интереса. Деградация вечной мерзлоты идёт с геометрической прогрессией. Мне тут соседи наши – палеонтологи – прислали матерьяльчик: прошлым летом каждую неделю новые кости и бивни вымывало наружу. Ребята даже не копали – всё так вываливалось.
– Ну так это хорошо? Разве нет? – отозвался снова рыжий из-за пульта.
– Ты про метаногидраты на дне моря слышал что-нибудь? – подался к нему очкарик.
– Ну слушай, за кого ты меня принимаешь? – обидчиво парировал собеседника рыжий, который на самом деле был кандидатом наук, правда, по части физики высоких температур. Очень высоких!
Чернявый хмыкнул и продолжал:
– Здесь, в Арктике, эти концентрированные, запечатанные в вечную мерзлоту газовые хранилища в виде льда находятся не на километровой глубине под дном, как, допустим, возле Японии, а всего лишь в десятке метров. Глобальное потепление, будь оно неладно, опасно как раз таянием метангидратов. – И чуть подумав, добавил:
– Метан – это вам не «це-о-два»: взрывоопасен и похлеще углекислого газа утепляет атмосферу. Есть даже теория, по которой Великое мел-палеоценовое вымирание динозавров было не импактным: ведь наряду с наземными крупными ящерами погибло множество видов морских и даже аммониты и водоросли!
Рыжий махнул рукой:
– Да ладно тебе! Этих теорий уже всяких разных навыдвигали. Чем метан-то мог животину покалечить? Он крайне летуч, токсичен только в высокой концентрации.
Чернявый поправил на носу очки и произнёс почти торжественно, точно теория эта была его собственная и озвучивал он её не в тесном балке научной экспедиционной станции, а, как минимум, в МГУ17 перед собранием академиков и профессоров:
– Очень вероятно, что причиной катастрофы был взрыв, и даже, я бы сказал, серия взрывов гигантской мощности, вследствие резкого повышения температуры и последующего за этим лавинообразного таяния метангидратов под океанским дном. А мощность была эквивалентна пятидесяти термоядерным бомбам!
– Это как так-то?! – послышался откуда-то из угла искренне удивлённый возглас техника.
– А вот так как-то…! – парировал чернявый. – И ещё одно очень важное дополнение: если таких высвобождающихся газов много, а процесс идёт лавинообразно, то перенасыщенная пузырьками жидкая среда сильно теряет в плотности. Всплывая, допустим, под корпусом корабля, такая смесь мгновенно делает его плавучесть отрицательной. Это всё равно, что тот провалится сразу на пятидесятиметровую глубину, а сверху ему закроют крышку люка. И всё! Говорят, что именно в этом заключён феномен исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике… А у нас тут не хухры-мухры, а целый «Северный морской путь»!
Высокий, даже крякнув от важности услышанного, встал со стула и снова склонился над тёмным длинным силуэтом на он-лайн голограмме:
– И всё же, что бы это могло быть? Сходить что ли глянуть? Не больше километра отсюда, – и уже открыл было рот, глядя на техника, но тот перехватил инициативу и сработал на опережение:
– Не-а! Ничего не выйдет: я снегоходы на консервацию поставил и аккумы отключил, – ему страсть как не хотелось возиться теперь с техникой на морозе по прихоти какого-то полоумного исследователя, хотя и его экспедиционного товарища. Наблюдение и описание данного объекта в плане работ не значилось. И слава богу!
– Ага! Сходи—сходи, – снова хохотнул рыжий, – Нам как раз к отъезду новых ощущений не хватает. А тут хоть развлечёмся – поищем тебя по сугробам.
Мужики в зале подхватили неявную шутку дружным смехом. У всех было хорошее настроение, и гоготать теперь не воспрещалось по поводу и без такового.
– Да-а. Здесь ещё не такое увидеть можно. Вот посмотрите, недавние съёмки с дрона-квадрокоптера, – один из бородачей вывел на настенный дисплей картину острова и стал двигать по ней перекрестьем поиска:
– Так, не то, не то… А! Вот оно, гляньте! – он приблизил и увеличил найденный район. – Вот посмотрите на этот высокий холм. Отметка семьдесят метров. Его вершина абсолютно лысая! Там вообще нет снега даже в самые сильные бураны. Температурные датчики зашкаливают в плюс! Если им верить, то прямо под поверхностью – ад кромешный!
Коллеги заинтересованно придвинулись к столу, виртуальное изображение удивительного утёса увеличивалось и достигло своего максимума. Вся свободная от снега земля была испещрена трещинами и провалами.
Тут в относительной тишине большой комнаты наконец-то прозвучало знаменитое «дедовское» «х-хе!», и все сразу поняли, что предстоит услышать что-то действительно новое и занимательное, а не споры по поводу той или иной теории. А главное – интересное! Ничего не скажешь, «дед» – бывалый зимовщик и мог рассказывать часами напролёт так, что никаких телевизоров не надо было.
– Само название «Деревянные горы» дано было здешним местам ещё пару веков назад, когда добытчики мамонтова бивня, которого здесь огромное количество, прямо под ногами, пытались было понять структуру самых высоких холмов острова. – В «уют-компании», как сами члены экспедиции называли между собой центральный зал, все аж замерли – слушать профессора Фёдора Высоковского любили все без исключения. Тот знал неимоверное количество разных историй и сказаний, баек и случаев и мог их выкладывать одну за другой часами напролёт, воодушевлённый лишь одной наградой – вниманием аудитории. Была у этих продуктов устного творчества и специфика: все они были на «арктическую» тему. А при более тесном знакомстве люди понимали, что профессор был просто одержим Арктикой, Антарктикой и всем тем, что касается снега, льда и холода. Вот такой он был человек, такое и прозвище соответствующее получил в группе – «Дед Мороз».
– Начав осматривать один из обвалившихся местных утёсов, первопроходцы обнаружили, что странная волнообразная структура породы, находившейся над реликтовым льдом вечной мерзлоты, напоминает… – рассказчик обвёл слушателей хитроватым взглядом из-под больших, старомодных очков в роговой оправе, – Деревья! Упавшие и лежавшие вперемешку с огромным количеством хвои, шишек и листвы многочисленные стволы деревьев! Сосны, кедры и даже гигантские секвойи! Вы не поверите, но в меловом периоде здесь стояли частоколом буйные леса, а климат был сродни черноморскому нашего времени, и зверья водилось немеряно!
Профессор привычным движением достал из нагрудного кармана старинный именной металлический портсигар, а из другого – плоскую, чуть изогнутую фляжечку, обшитую синей кожей: настроение у предотъездных было великолепное!
– А теперь – на древних стволах мумифицированных растений был крепчайший налёт чего-то тёмно-серого, похожего на уголь. И было не так-то просто отковырять от этой единой глыбы хотя бы малый фрагмент, например, во всех мелочах и деталях сохранившийся лист или веточку. Они были точно каменные. Ну и, понятное дело, всё это было завалено и проложено огромными массами глинистого песчаника и камней, утрамбовано сверху многометровым пластом вечного льда.
«Дед Мороз» освободил фляжку от крышечки и опрокинул ее над тарой: в импровизированную рюмку тягуче скатилась ароматная жидкость, цветом схожая с крепким чаем.
– Так вот, когда полвека назад здесь была малюсенькая, вмёрзшая в лёд и укрытая многометровыми сугробами советская метеостанция, кстати, полная тёзка нашей нынешней … – и он сделал круговое движение рукой с зажатой рюмкой, – почти космической станции. Вот, двое таких, как вы, – и он указал на молодых людей, с открытыми ртами слушавших «Деда», – тоже заметили при визуальном обследовании в ясную погоду на горах «лысину»! А, добравшись туда и заглянув в трещины термокарста, припустили что есть мочи в лагерь: по их словам, увиденное там больше напоминало топку паровоза или преисподнюю! Пламя и огненное месиво прямо под ногами… Одно неверное движение, и полная кремация им была бы обеспечена, а в длинном ряду арктических загадок появилась бы ещё одна тайна исчезновения.
Тут уже даже не выдержал и присоединился к разговору особо серьёзный и усердный сотрудник, всё это время сидевший сосредоточенно за компьютерным пультом газоанализатора:
– Ну, и что в результате-то? Это какая-то аномалия? Почему там такая высокая температура? – на Высоковского со всех сторон посыпались вопросы и даже упрёки в явной ереси тех давнишних бедолаг:
– Разрывов коры или вулканизма здесь отродясь не было…! А самовозгорания у окаменелостей в принципе не может быть.
Профессор загадочно улыбнулся и, наливая вторую «крышечку», медленно произнёс, посмотрев на колыхавшуюся над столом проекцию:
– Наша Земля – единый живой организм. Если что-то по тем или иным причинам стало лишним, ненужным, бесполезным, она найдёт способ убрать это, удалить, избавиться от него. Для этого у неё есть все ресурсы. А если своих сил не хватит на утилизацию, думаю, найдутся помощники. – И, выпив залпом вторую «рюмочку» и отвернувшись куда-то в сторону, сказал тихо, в бороду, как будто самому себе:
– Истории свойственно повторяться. Шестьдесят шесть миллионов лет назад ненужными, лишними стали динозавры, освободив своим вымиранием жизненное пространство другим видам. Вопрос: кому именно? – и, посмотрев на загадочное тёмное пятно на голограмме, подытожил:
– Но самое главное, чтобы этим ненужным «мусором» не оказались когда-нибудь… сами люди!
Присутствующие, в полной тишине дослушав профессора до конца, вдруг дружно загалдели, эмоционально размахивая руками и вскакивая с мест. Закачали головами, одни соглашаясь, другие – нет, недоуменно поджимая губы или, наоборот, одобрительно прикрывая глаза. Кто-то даже, на время отключив пожарную сигнализацию, а следовательно, и всю систему видеоконтроля в зале, достал сигареты… За бурным обсуждением учёные зимовщики, как слушали «деда», сидя спинами к техническому коридору, так и сейчас не обратили внимания на оказавшуюся вдруг незапертой входную дверь.
Руководивший имитационным запуском геофизической ракеты инженер, внезапно обнаруживший на интерактивном пульте зумм системы неисправности в энергосети стартового стола, потянулся было к пульту экстренного отключения предстартового отсчета, но не успел…
Электричество на станции вырубило сразу и везде. Даже аварийные дублирующие генераторы, обязанные включиться автоматически и без промедления, сейчас молчали. Наступила полная и абсолютная темнота. И тишина…
Последнее, что смог заметить падающий на пол профессор Федор Высоковский, – это странные всполохи голубоватого свечения, в кратких вспышках которого обозначались смутные, как будто извивающиеся чёрные тени, заполнившие зал с той стороны, где был технический ход к стартовому столу.
Прошло ровно полторы минуты, и аварийный генератор запустил работу всех функционирующих систем, кроме полноценного освещения помещений. Компьютеры начали перезагружаться, а над плоским большим столом в центре комнаты снова заколыхалась голографическая проекция. Всё снова было так же, как и прежде. Только люди, радостным и живым разговором наполнявшие до этого помещение, лежали теперь молча и без движения, вповалку, кто куда угодил: на креслах, скамейках и на полу. На дисплее автоматического медицинского сканера таблицы показателей жизнедеятельности и мозговой активности членов экспедиции были в норме, но отмечали фазу глубокого сна. Причем, так было не у всех. «Дед», если верить аппаратуре, был полон сил и бодрости, а с ним и ещё двое, которые, впрочем, лежали тут же рядом с ним, у компьютерного стола.
Система мониторинга помещений работала исправно и посылала на большой обзорный дисплей видеоряд с контрольных точек станции: спальные помещения, аппаратные, электрогенераторная, склад, внешний периметр. В тусклом свете можно было различить, как по всей станции распространились тёмные, почти чёрные тени, силуэты которых напоминали людей, но двигались они чрезвычайно быстро и как-то… волнообразно. Их почти не было видно, но голубоватые всполохи, окольцовывающие верхние конечности странных существ, выдавали в потёмках их местоположение.
В командном пункте двое из них приблизились к пульту управления стартом и аккуратно подняли и посадили в кресло обмякшее тело оператора. Глаза его были открыты, зрачки расширены и смотрели на мир, не мигая. Но по всему было понятно, что он жив и, вероятно, парализован. Взяв человека за руки, чёрные существа, конечности которых, казалось, росли прямо от едва обозначенной головы, – положили безвольные пальцы на клавиатуру и начали ими поочерёдно нажимать на виртуальные кнопки. На рабочем столе развернулась голограмма контроля запуска ракеты, ее составные части и узлы, их телеметрия. Стартовый отсчет снова, как ни в чём не бывало, продолжился, и сбой в системе не был определён как ошибка. Одно из существ осторожно взяло за затылок голову безвольного оператора и пододвинуло ближе к нейродатчику системы подтверждения пуска. Радужная оболочка быстро была опознана, и система запросила подтверждение и уточнение изменений. На дисплее в разделе «старт» вместо слова «учебный» появилось новое – «боевой»…
Погода была нормальная, и дежурный наблюдатель берегового поста на острове Котельный засёк в оптику всполох стартовавшей и уходившей всё выше и выше в небо небольшой метеорологической ракеты. Вскоре та скрылась в вышине за облаками, и лишь пародымовой инверсионный след от работы двигателей напоминал о состоявшемся пуске.
– Странно, мне Серёга Говорцов вчера звонил: сказал, что они все скоро уезжают, и живых пусков пока не будет, вплоть до самой осени, – дежурный наблюдатель отошёл от оптики и склонился над столом вахтенного напарника:
– Значит, так и запиши, что мол, тринадцатого ноль третьего тридцатого, в … – он посмотрел на часы, – … четыре тридцать две утра был зафиксирован произведённый боевой старт метеофизической ракеты со стартового стола СРЗА «Утёс Деревянных гор» острова Новая Сибирь. Записал? Отлично! – и, проверив лично запись в электронном журнале, добавил:
– Сними копию медицинских показателей самочувствия экспедиции, видеотрек помещений на момент пуска и прикрепи к записи происшествия… сделал? Отправляй в архив…
На минутном видеоролике зимовщики мирно сидели в хорошо освещённой кают-компании или отдыхали у себя в кубриках. На колышущейся над большим столом он-лайн метеокарте всё так же плыли облака, и полыхало изумрудным огнём северное сияние. А вот большого чёрного пятна у южного берега острова уже почему-то не было…
Уверенно двигавшееся в тусклом свете дежурных ламп чёрное существо остановилось и протянуло с необычной кинематикой изгибающуюся конечность к стоявшей на тумбе компактной цифровой видеокамере. На откинутом в сторону проекционном дисплее радостно забегали по снегу веселые люди – члены злополучной экспедиции. Они дурачились, бросали друг в друга снежками и орали, что было силы. Трансляция прекратилась, и существо, потрескивая голубоватыми искрами маленьких световых обручей на концах двух щупалец, быстро направилось в центральный зал.
– Мы нашли то, что необходимо.
Слова их вязкой и еле различимой речи были похожи на какой-нибудь редкий китайский или корейский диалект, и в таком виде, какой транслировался на звукозаписывающую аппаратуру системы контроля станции, он не мог быть переведён оперативно. Даже серьёзный лингвист, специалист по китайскому языку был бы не в силах выделить что-либо членораздельное в этой сплошной каше звуков, размазанной к тому же по разной частотной модуляции и обертонам, так что «речь» походила скорее на какое-то бормотание вперемешку с завываниями и негромкими вскриками.
Внешне существа, так внезапно и стремительно ставшие непрошенными гостями экспедиционной станции, больше походили на невероятных сухопутных четырёхлапых осьминогов, чем на гуманоидов. Даже их манипуляции и поведение чем-то неуловимо роднило их с головоногими. Стоя сейчас каждый над «своим» поверженным человеком, они аккуратно ощупывали их, проводя конечностями по лицам, волосам и одежде. Вошедший «осьминог» передал камеру, вероятно, самому главному в отряде, и тот подключил её к маленькому чёрному кубику. Последовала гулкая, низкочастотная мешанина звуков. Вероятнее всего, это был приказ подчинённым:
– Вот видеофайлы со всеми членами экспедиции. Начинайте сканирование и интеграцию. Запускайте копирование. Мне нужна вся информация из их мозга и баз данных, абсолютно вся!
В это время облачное скопление на виртуальной метеопроекции стало стремительно меняться. Огромные массы туч заворачивались в гигантскую воронку, диаметром в полтысячи километров. Её «глаз» находился теперь практически прямо над Новосибирскими островами. Графики приборных показателей на дисплеях поползли вверх, и когда они прошли красную линию на координатной плоскости, тревожно завыла сирена. Один из осьминогов выполнил какие-то манипуляции с чёрным кубиком, и тревожные звуки затихли.
Главный будто бы только этого и ждал:
– Приступайте! Теперь их эвакуационный транспорт прибудет только через трое суток. У нас будет достаточно времени подготовиться.
Уже через два часа на эту часть Ледовитого океана налетел такой страшный ураган, что всякое радиосообщение между островами и даже военными базами было прервано или поддерживалось лишь частично. Ужасающей силы ветер готов был выдрать с корнем и унести в океан абсолютно всё, что не было намертво пристёгнуто, приварено, прикручено. Колоссальные снежные заряды обрушивались с такой силой, что за десять минут засыпали по крышу даже стоящие на гидроопорах «космические» будки экспедиции. Но вновь налетающий вихрь поднимал всё это белое безумие в воздух и циклопическим шлейфом уносил вдаль.
И конца и края не было видно этой дикой свистопляске, получившей «дозу» арктической погоде. Пока не выдохнется все под ноль, хмельное буйство не прекратится.
На пульте спутниковой связи засветился огонёк у триггера входящего вызова, и на экране очень нечётко, постоянно подёргиваясь, проявилось размытое изображение человека.
– Вызыв… ю «Утёс Деревя… х гор», …ветьте мне! Это… танция…! – голос постоянно прерывался помехами. – Ваш транспо… с инженерн… составом подойдёт только после… ри! Ждите сеанса …зи! Ко… ц св… и!
– Вас понял! Ждём улучшения погоды. Конец связи! – экран трансляции потух, краткий экстренный сеанс был окончен.
Последние ответные слова были сказаны абсолютно идентичным зычному голосу чернявого тембром. Сам он бездыханно лежал на полу, возле терминала связи. Даже специфический южный акцент был точно скопирован. Произносившее фразу зловещее существо отщёлкнуло тумблер связи в положение «выкл.» и замерло над телом поверженного человека.
Над Новосибирскими островами только ещё набирал обороты неистовой силы гигантский ураган, а под мощным монолитным панцирем прибрежного льда, там, где была полная тишина и мёртвое спокойствие, неслышно и беспрепятственно снялась с грунта и теперь ускользала обратно в океан глянцево-чёрная тень таинственного подводного объекта. Человечество доживало последние сутки своего сытого, сонно-безмятежного неведения…
12
Арктические трилистники – новейшая архитектура автономных арктических полярных станций.
13
Яков Санников – русский купец и путешественник, XVIII века.
14
НИИ – научно исследовательский институт.
15
Иглу – компактное северное временное жилище из снежных блоков
16
РЛС – радиолокационная станция.
17
МГУ – Московский государственный университет.