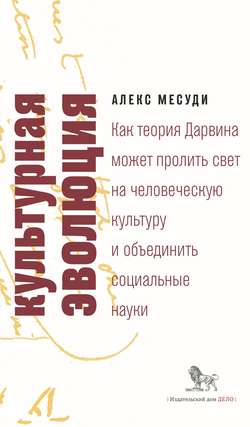Читать книгу Культурная эволюция. Как теория Дарвина может пролить свет на человеческую культуру и объединить социальные науки - Алекс Месуди - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
Культурный вид
Насколько важна культура?
ОглавлениеЕсли различия в человеческом поведении можно объяснить множеством способов, то как мы можем знать, что культура не менее важна, чем гены или индивидуальное научение? Приведем три примера – из политологии, из экономики/культурной антропологии и из психологии, – демонстрирующих важность культуры.
Гражданская вовлеченность: из Европы в Америку. Существует расхожее выражение, что США – страна иммигрантов. Конечно, на континенте обитало несколько миллионов коренных жителей, но первые европейские поселенцы действительно прибыли в Северную Америку из разных мест – из Британии, Германии, Италии, Нидерландов и Скандинавии. Те, кому доводилось путешествовать по Европе, знают, что население любой из этих стран разделяет приблизительно схожие представления и убеждения (по крайней мере, в сравнении с Японией или Индией), но между собой они при этом существенно разнятся. Одно из таких различий касается отношения к гражданской вовлеченности. В нее входят разнообразные аспекты, которые принято считать полезными для либерального демократического общества: желание участвовать в благотворительности и волонтерской работе, голосовать на выборах, организовывать местные инициативные группы и профсоюзы, регулярно читать новости (и, как следствие, принимать осознанные демократические решения) и поддерживать социальное равенство и меньшинства. В некоторых странах – например, в Дании, Норвегии и Швеции – высокий уровень гражданской вовлеченности. Жители этих стран активно ходят на выборы, занимаются благотворительностью и волонтерством и т. д. В других странах – например, в Италии и Испании – средний уровень гражданской активности ниже. Их жители с меньшей охотой жертвуют на благотворительность, не так активно голосуют и реже занимаются волонтерской работой.
Эти культурные различия, связанные с гражданской вовлеченностью, дали возможность политологам Тому Райсу и Яну Фельдману проверить, как долго сохраняются культурные различия[6]. Райс и Фельдман предположили, что если ценности, связанные с гражданской вовлеченностью, действительно передаются с культурой (от родителей к детям и от учителей к ученикам), то, скорее всего, уровень гражданской активности у современных американцев будет зависеть от конкретной европейской страны, откуда родом их предки. Поэтому Райс и Фельдман подсчитали гражданскую вовлеченность среди американцев разного происхождения. Они задавали следующие вопросы: «Как часто вы следите за новостями?», «Голосовали ли вы на последних президентских выборах?» и «Стоит ли, по вашему мнению, в целом доверять другим людям или же стоит вести себя с ними осторожно?» Также у респондентов спрашивали, согласны ли они с такими утверждениями: «Большинству государственных служащих не интересны проблемы обычного человека» или «Женщины должны заниматься хозяйством и оставить мужчинам руководить страной».
Результаты исследования совпали с ожиданиями Райса и Фельдмана. У американцев, являющихся потомками переселенцев из европейских стран с высоким уровнем гражданской вовлеченности, например, Дании, Норвегии и Швеции, был отмечен и относительно высокий уровень этого качества. У потомков иммигрантов из европейских стран с невысоким уровнем гражданской вовлеченности, в частности Италии и Испании, он был так же не очень высок (см. рис. 1.1). Райс и Фельдман так объясняют это сходство: ценности, связанные с гражданской вовлеченностью – например, убеждение, что участие в выборах или благотворительности является важным и желательным, – передавались через имитацию или обучение от родителей к детям или от учителей к ученикам на протяжении нескольких поколений, соединяющих европейских переселенцев и современных американцев. Это происходило, несмотря на активное общение с американцами иного происхождения, несмотря на Декларацию независимости и гражданскую войну, вопреки географическим и экологическим различиям между Европой и США. В другом исследовании Том Райс и Маршалл Арнетт показали, что ценности, связанные с гражданской вовлеченностью, могут оказаться крайне важными[7]. Они выяснили, что средние показатели гражданской вовлеченности за разные периоды истории США в разных штатах позволяют предсказать их последующее социально-экономическое развитие. В частности, штаты, где эти цифры были высоки в 1930-е годы, достигли лучших показателей личного дохода и образования в 1990-е годы по сравнению со штатами с низким уровнем гражданской вовлеченности в 1930-е годы. Однако этот принцип не действовал в обратную сторону: социально-экономические показатели 1930-х годов не влияли на уровень гражданской вовлеченности в 1990-е годы. Поэтому, скорее всего, это гражданская активность определяет последующее социально-экономическое развитие, а не наоборот. Не совсем ясно, как именно это происходит, но можно предположить, что в штатах, где жители больше ценят представительную демократию, выбирают более эффективных и честных политиков; возможно, богатые жители этих штатов жертвуют больше на благотворительность, уменьшая таким образом неравенство и повышая средний доход. Как бы там ни было, исследования Райса и его коллег показывают, что культурные ценности могут сохраняться на протяжении нескольких поколений и существенно влиять как на поведение людей, так и на общество, в котором они живут.
РИС. 1.1. Корреляция между гражданской вовлеченностью в европейских странах и у современных американцев, считающих себя потомками иммигрантов из этих европейских государств. Значения нормализованы (z-scores) для нескольких показателей гражданской активности.
ДАННЫЕ ИЗ: Rice and Feldman 1997
Везде ли справедливость одинакова? Исследования Райса и коллег занимательны, но несколько ограниченны, поскольку в них используются показатели гражданской вовлеченности, основанные на ответах респондентов. А тот, кто говорит, что очень важно ходить на выборы или жертвовать на благотворительность, не обязательно голосует сам или отдает свои деньги. Но культурные различия можно также исследовать, напрямую измеряя человеческое поведение в контролируемых экспериментах.
Одна из составляющих гражданской вовлеченности – это чувство справедливости, а ее антипод – эгоизм. Люди с высоким уровнем гражданской активности, как правило, ценят справедливость в личном общении и в бизнесе, а также считают, что каждый должен получать столько, сколько он заслуживает. Люди с низким уровнем гражданской вовлеченности, наоборот, не стремятся к справедливости, а пытаются увеличить собственную прибыль за чужой счет. В экспериментальной экономике справедливость измеряется с помощью так называемой игры «Ультиматум». В нее играют два игрока – предлагающий и отвечающий. Предлагающий должен разделить некоторую сумму денег, например 100 долларов, на две части. Одну из них он может оставить себе, а другую должен отдать отвечающему. Скажем, предлагающий может разделить 100 долларов поровну – на две части по 50 долларов каждая (справедливое предложение), или он может предложить 20 долларов, а себе оставить 80 (эгоистичное предложение), или предложить 80 долларов, а оставить 20 (щедрое предложение). После этого отвечающий может принять предложение – в таком случае оба игрока получат названные суммы. Но отвечающий может также отвергнуть предложение – в таком случае ни один из них ничего не получит. Как правило, «Ультиматум» разыгрывается один раз при анонимности обоих игроков. Это нужно для того, чтобы избежать сделок, обещаний и репутационного давления. Обычно делят довольно существенную сумму денег, чтобы мотивировать игроков к реалистичному поведению.
В обычной выборке, состоящей из американских студентов, наиболее распространенное предложение – 50 %, то есть честный, равный раздел. Реакция отвечающих предполагает наличие у них чувства справедливости: любое предложение суммы менее 20 % отклоняется в половине случаев[8]. То есть они отвергают предложения, которые им кажутся нечестными. В свою очередь, предлагающие тоже держат это в уме. Полученные в эксперименте данные показывают, что американские студенты не очень эгоистичны. Поскольку у них развито чувство гражданской вовлеченнности, то у них есть и чувство справедливости; поэтому они не против делиться деньгами[9].
Справедливое поведение в игре «Ультиматум», как и гражданская вовлеченность, воспринимается различным образом в разных сообществах. Группа культурных антропологов, возглавляемая Джозефом Генрихом из Университета Британской Колумбии, провела эксперименты с игрой «Ультиматум» в 50 небольших сообществах из двенадцати стран[10]. Эти сообщества отличались друг от друга образом жизни: некоторые состояли из кочевых пастухов, другие – из охотников-собирателей, третьи – из мелких земледельцев. В каждом случае два члена сообщества, выбранные случайным образом, анонимно играли в «Ультиматум» за большое вознаграждение – как и американские студенты. Оказалось, что предложения, которые делались членами разных сообществ, существенно варьировались. Например, жители Ламалеры в Индонезии и представители парагвайского народа аче обычно предлагали 50 % суммы отвечающим, как и американские студенты. А вот представители народов мачигенга (Перу) и хадза (Танзания) обычно предлагали только 20–25 %. Размер принимаемой суммы тоже различался: эквадорские кечуа принимали любые суммы, даже менее 50 %, в то время как представители ау из Папуа – Новой Гвинеи отвергали четверть всех предложений, даже превышающих 50 %.
Чем объяснить эти различия в понимании справедливости? Переменные, касающиеся конкретных индивидов, – пол, возраст, благосостояние и образование – не коррелировали с поведением в игре «Ультиматум» ни при сравнении сообществ между собой, ни в каждом отдельно взятом сообществе. Лучше всего поведение игроков объяснялось особенностями сообществ – прежде всего тем, насколько экономическое положение в каждом сообществе зависело от взаимодействия с людьми за пределами семейного круга. В сообществах, где предложения в игре были самыми низкими, как у мачигенга, экономические контакты с кем-либо за пределами своей семьи были редки в повседневной жизни. Сообщества, в которых предложения были высокими, оказались более интегрированными в рыночную экономику; в повседневной жизни люди часто торговали и сотрудничали с другими. Например, жители Ламалеры, делившие деньги пополам, охотятся на китов у берегов Индонезии. Китобойный промысел – непростое дело, успешная охота требует большой команды на нескольких лодках. Поскольку успех зависит от сотрудничества между несколькими людьми, китовое мясо делят на равные части между всеми членами команды. Иными словами, необходимость сотрудничества привела к выработке довольно сильных норм справедливости, которые, по мнению Генриха и его коллег, и проявляются в игре «Ультиматум» в виде склонности к равному разделу. Подведем итог: люди в разных сообществах обладают разными уровнями справедливости, поскольку они переняли разные нормы справедливости от других членов своих сообществ. А эти нормы возникли из-за разницы между способами существования в этих сообществах.
Восточное и западное мышление. Один из выводов исследования Генриха и его коллег состоит в том, что американские студенты – это далеко не самые типичные представители нашего вида. Этот взгляд все больше распространяется в экономике. К этому заключению также постепенно приходят психологи. На протяжении ста с чем-то лет экспериментальные исследования в психологии обычно проводятся западными (из Западной Европы или Северной Америки) психологами, с западными же участниками экспериментов: как правило, образованными, принадлежащими к среднему классу, финансово обеспеченными студентами. Несмотря на такую явно ограниченную выборку, основные открытия западных психологов зачастую объявлялись открытиями универсальных, общечеловеческих психических процессов. Однако в последние годы многие культурные психологи начали проверять эту предпосылку и все чаще находят существенные различия в психических процессах у людей из разных сообществ[11].
Хорошим примером здесь может быть то, что западные психологи назвали фундаментальной ошибкой атрибуции: склонность объяснять действия других людей устойчивыми внутренними диспозициями. Эта ошибка характерна для жителей западных стран. Например, если у западного человека спросить, почему студент не сдал экзамен, то в ответ мы услышим, что студент был ленив, недостаточно подготовился или же попросту глуп. Жители Запада не склонны принимать во внимание внешние, не зависящие от студента обстоятельства, как, например плохих учителей, плохое самочувствие или случайные неудобные вопросы. Эту склонность называют «ошибкой», поскольку она сохраняется, даже когда очевидно неверна. В классическом эксперименте, где это явление и было продемонстрировано, американские студенты читали сочинения учеников, поддерживающие или критикующие коммунистический режим Фиделя Кастро на Кубе[12]. Половине участников сказали, что ученики могли сами выбирать позицию – за или против режима, другой половине было сказано, что ученики должны были защищать позицию, выбранную за них случайным образом. После этого участников эксперимента спросили, насколько, по их мнению, авторы сочинений поддерживают Фиделя Кастро. Как и ожидалось, участники, полагавшие, что у учеников была свобода выбора, сказали, что защитники Кастро действительно поддерживали его больше, чем те, кто написал критические сочинения. Но, неожиданным образом, то же самое сказали и те, кто думал, что у учеников не было свободы выбора: они также посчитали, что авторы положительных сочинений лучше относятся к Кастро, чем авторы критических. Иными словами, участники проигнорировали внешние обстоятельства – тот факт, что ученики сами не могли выбирать собственную позицию, – и ошибочно решили, что содержание сочинения отражает позицию автора.
До середины 1990-х годов считалось, что фундаментальная ошибка атрибуции – универсальная черта человеческой психологии (в конце концов, ее назвали «фундаментальной»). Но когда культурные психологи начали в похожих экспериментах привлекать участников не с Запада, то фундаментальная ошибка атрибуции оказалась намного меньше, а то и вовсе отсутствовала. Майкл Моррис и Кайпин Пен, например, просили американских и китайских респондентов прочесть новостную статью о реальном убийстве: статья была о китайском студенте-физике Ганге Лу, который застрелил своего научного руководителя, нескольких прохожих и потом себя – все после того, как он не получил академической награды и не устроился на исследовательскую работу[13]. Американские участники чаще, нежели китайские, объясняли поведение Лу внутренними диспозициями, соглашаясь с утверждениями вроде: «У Лу были хронические личностные проблемы», «Лу сошел с ума из-за чрезмерных требований к себе», «Лу беспокоился только о собственных достижениях и ни о чем больше». Китайские участники чаще объясняли произошедшее внешними обстоятельствами, больше соглашаясь с такими утверждениями: «Экономический кризис ударил по рынку труда, и поэтому люди, ищущие работу, находятся под давлением», «Научный руководитель не справился со своими обязанностями и не помог Гангу Лу преодолеть разочарование», «Американские кино и телевидение превозносят жестокую месть».
Подобные кросскультурные исследования, сравнивающие людей из Северной Америки и Восточной Азии, выявили множество других отличий в способах мышления. Было показано, что многие психические явления, ранее считавшиеся универсальными, у населения не-западных стран (в частности, Восточной Азии) выражены менее отчетливо или вообще отсутствуют. К таким явлениям относится, например, когнитивный диссонанс (тревога, которая возникает, если придерживаться противоречивых убеждений). Другие исследования выявили различия в базовых процессах внимания, памяти и восприятия. Например, жители Восточной Азии лучше запоминают положение предмета среди других предметов, а западных стран – лучше запоминают черты отдельных объектов. Психолог Ричард Нисбетт с коллегами предложили описывать различия между Востоком и Западом в едином измерении: способ мышления в Восточной Азии можно назвать «холистическим», а способ мышления на Западе – «аналитическим»[14]. В восточном холистическом мышлении особое внимание уделяется отношениям между объектами и между людьми (например, признается роль внешних обстоятельств в расследовании убийств), тогда как в западном аналитическом мышлении особое внимание уделяется характеристикам и диспозициям отдельных объектов и людей. В общем, недавние исследования в области культурной психологии сходятся на том, что культура оказывает большое влияние на наше мышление и поведение.
6
Rice and Feldman 1997. Стоит отметить, что я заменил их понятие «гражданской культуры» понятием «гражданская вовлеченность» (civic duty), чтобы избежать путаницы со словом «культура».
7
Rice and Arnett 2001. См. также похожие исследования различных религий в Италии: Патнэм 1996; Putnam 1993.
8
Подробнее об игре «Ультиматум» с американскими студентами см.: Roth 1995; Camerer and Thaler 1995.
9
Эти открытия активно обсуждались экономистами, так как они идут вразрез с классическими теориями «рационального выбора». Согласно этим теориям, люди должны вести себя так, чтобы максимально увеличивать количество получаемых денег (или иных ценных вещей). В игре «Ультиматум» такое поведение приведет к крайнему эгоизму. Отвечающие должны принимать любое предложение, если оно больше нуля, ведь любое количество денег лучше, чем их отсутствие. Зная об этом, предлагающие должны выдвигать как можно меньшую сумму – например, один доллар, оставляя себе 99 долларов. Отвечающий принимает этот доллар, так как это лучше, чем не получить вообще ничего, отвергнув предложение. Попытки объяснить эту, на первый взгляд иррациональную, справедливость, свойственную людям, будут предложены в главе 8. Здесь же меня интересует межкультурное разнообразие в игре «Ультиматум».
10
Henrich et al. 2005; Henrich et al. 2010.
11
См. обзорные работы: Heine and Norenzayan 2006; Henrich, Heine, and Norenzayan 2010.
12
Jones and Harris 1967.
13
Morris and Peng 1994.
14
О когнитивном диссонансе см.: Heine and Lehman 1997. О внимании и запоминании объектов см.: Masuda and Nisbett 2001. Об аналитическом и холистическом мышлении см.: Nisbett et al. 2001. Об исследованиях по культурной психологии см. обзорные работы: Heine and Norenzayan 2006; Heine 2008.