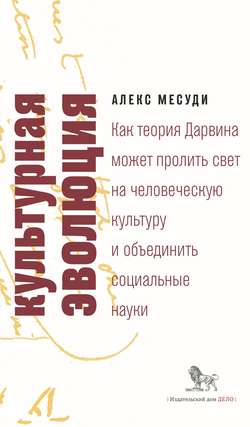Читать книгу Культурная эволюция. Как теория Дарвина может пролить свет на человеческую культуру и объединить социальные науки - Алекс Месуди - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
Культурный вид
Культура, среда или гены?
ОглавлениеПриведенные примеры указывают на существенные расхождения между членами различных обществ или групп, между их поведением и мышлением. Но действительно ли это культурные различия? Напомню, что люди также получают информацию двумя другими способами: генетически и путем индивидуального научения. Возможно, связанные с гражданской вовлеченностью ценности, сохраняющиеся на протяжении нескольких поколений, передаются не культурно, а генетически: возможно, скандинавы генетически более предрасположены к таким ценностям, чем итальянцы, и это генетическое различие сохраняется в США до сегодняшнего дня. Или же, возможно, различия в понимании справедливости, которые проявляются в игре «Ультиматум», – результат индивидуального научения: каждый член более-менее «справедливого» общества живет в такой (не социальной) среде, где у него – независимо от других – развивается достаточно высокий уровень справедливости. При этом у членов менее справедливых обществ – тоже независимо друг от друга – развивается менее справедливое отношение.
К этим объяснениям нужно отнестись серьезно, поскольку многие влиятельные традиции в социальных науках скорее склоняются к генетическим гипотезам или гипотезам об индивидуальном научении для объяснения различий в человеческом поведении. Два основных направления в психологии ХХ века – бихевиоризм и когнитивная психология – изучали в первую очередь индивидуальное научение, игнорируя социальное научение и культуру. Бихевиористы вроде Дж. Б. Уотсона и Б. Ф. Скиннера пытались объяснить человеческое поведение за счет простых механизмов индивидуального научения, таких как условные рефлексы, при которых возникают ассоциативные связи между различными стимулами (изначальным примером этого были собаки Павлова, которые учились ассоциировать звук колокольчика с едой). Когнитивные психологи внимательнее изучают структуры знаний, влияющие на наше поведение, скажем, абстрактные категории, которыми мы пользуемся для классификации объектов (например, «мебель» или «животное») и на основании которых делаем выводы о свойствах незнакомых нам объектов, не прибегая при этом к ассоциативному обучению методом проб и ошибок. Но, подобно своим предшественникам-бихевиористам, когнитивные психологи обычно не проводят различие между получением информации из окружающей среды (то есть из не-социальной среды) и получением информации от других людей – последнее вообще редко принимается во внимание. Похожим образом экономисты, представляющие «теорию рационального выбора», обычно предполагают, что люди рассчитывают затраты и выгоды своих действий по отдельности, а культурные влияния при этом незначительны. Представители так называемой «культурной экологии», или «культурного материализма», в культурной антропологии – направления, часто связываемого с антропологами Джулианом Стюардом и Марвином Харрисом, предполагают, что поведенческие практики и технологии можно рассматривать в качестве адаптаций к локальным, а не культурно наследуемым условиям[15].
Исследователи из других дисциплин подчеркивают роль генов. Например, эволюционные психологи, как правило, объясняют человеческое поведение с помощью адаптаций, появившихся в процессе эволюции, и недооценивают или игнорируют роль культуры. В теории, эволюционные психологи вроде Джона Туби и Леды Космидес признают существование «передаваемой культуры» – то есть культуры, как я ее определил ранее в этой главе, – но при этом они преимущественно изучают «культуру, вызванную биологией»[16]. Согласно идее культуры, вызванной биологией, значительную часть различий между поведением человеческих сообществ можно объяснить различиями в генетически закодированных реакциях, которые включаются в ответ на различающиеся экологические условия: что-то вроде смеси генов и индивидуального научения. Чтобы объяснить, как это работает, Туби и Космидес используют метафору музыкального автомата. Представьте два таких автомата с идентичными наборами песен. Хотя они одинаковы, в зависимости от выбора слушателей один может играть песню The Beatles, а второй – песню Боба Дилана. Точно так же два человека, живущих в разных сообществах, могут вести себя по-разному, поскольку различные (не социальные) внешние стимулы активируют в них те или иные реакции при идентичности изначального репертуара. Этот взгляд существенно отличается от предложенного ранее определения культуры как «социальной передачи». Если эволюционные психологи правы, то передающаяся культура не играет большой роли в различиях человеческого поведения, а теория культурной эволюции не нужна. Следовательно, важно показать, что индивидуальное научение и гены не могут полностью объяснить различия в нашем поведении, и культура все же играет немаловажную роль.
Индивидуальное научение само по себе не может объяснить различия в человеческом поведении. Если бы индивидуальное научение определяло наше поведение, то стоило бы ожидать высокой корреляции между поведением человека и не-социальной экологической средой, в которой этот человек живет: климатом, местностью, животным и растительным миром. Похожие экологические условия заставляли бы людей изобретать сходные решения проблем, возникающих в такой среде.
Многочисленные примеры, собранные антропологами и социологами, противоречат этому. Как представляется, между поведением и экологией существует «двойное несоответствие». Два общества, живущих в одной и той же среде, могут поддерживать совершенно различные практики поведения. Например, религиозные группы амишей-меннонитов живут в той же экологической среде в Пенсильвании, что и пенсильванцы, не принадлежащие к числу амишей, но при этом у них существенно отличаются обычаи и практики – скажем, вместо автомобилей они пользуются лошадьми и колясками. И наоборот, два общества с очень схожими поведенческими практиками могут проживать в совершенно разных экологических условиях. Например, экологические условия Британии и Австралии сильно отличаются, но при этом британцы, иммигрировавшие в Австралию, сохранили многие британские обычаи, законы, практики и, конечно, английский язык (пусть и со многими интересными изменениями).
Эти отдельные примеры подтверждаются более систематическими, статистическими исследованиями. Антрополог Барри Хьюлетт вместе с психологами Аннализой Де Сильвестри и Розальбой Гульельмино сравнили 109 различных обычаев, распространенных в 36 этнических группах в Африке[17]. К ним относились, например, типы брачной системы (моногамия или полигамия), наличие или отсутствие интенсивного земледелия, а также вера или отсутствие веры во вмешательство богов в земные дела. Лишь четыре из 109 обычаев изменялись в соответствии с экологическими условиями (определяемыми как пустыня, саванна или лес), а это значит, что локальная адаптация к экологическим условиям через индивидуальное научение не играла большой роли. Остальные обычаи сильнее всего были связаны с родовыми отношениями, то есть передачей культуры в семьях, или с географической близостью, то есть с передачей культуры между соседними группами.
Гены сами по себе не могут объяснить различия в человеческом поведении. Исследование Райса и Фельдмана подталкивает к мысли, что ценности, связанные с гражданской вовлеченностью, передаются культурно из поколения в поколение. Однако есть и другое объяснение: гены. Возможно, различия в гражданской активности среди жителей европейских стран и их американских потомков – генетические, а не культурные. Это объяснение также не противоречит открытиям Хьюлетта, Де Сильвестри и Гульельмино, сделанным в Африке: многие практики коррелируют с родовыми связями. Такую закономерность тоже можно объяснить с помощью генетической наследственности – ведь в роду передается не только культурная информация, но и гены.
Для начала важно уточнить, в чем именно должно состоять генетическое объяснение. Несомненно, психологические механизмы, позволяющие нам, например, имитировать других людей или изучать языки, – результат генетической эволюции. Такие сложные способности не могли возникнуть из ниоткуда, если только мы не прибегаем к креационизму. Однако в данном случае нас интересуют не эти базовые способности, а содержание культуры: конкретные убеждения, мнения, навыки и ценности, передающиеся с помощью этих генетически развившихся способностей. В частности, нас интересует, можно ли объяснить различия в убеждениях, мнениях, навыках и ценностях – как внутри групп, так и между группами – с помощью генетических различий или же различий культурных.
Большинство различий в поведении разных групп попросту невозможно объяснить генами. Сравнивая однояйцевых (то есть генетически идентичных) и разнояйцевых близнецов, а также родных братьев и сестер, психогенетики установили, что большинство поведенческих и когнитивных признаков, таких как IQ, личностные качества и психические расстройства, наследуются в 40–50 % случаев. Это значит, что почти половину различий в поведении людей, принадлежащих к одному обществу, можно объяснить генами[18]. Культуре остается 50–60 %. Но вот ключевой момент: это различия между членами одного общества, а не разных. Влияние генов на различия между разными обществами заметно ниже. По оценкам недавнего всемирного исследования, 93–95 % генетической изменчивости приходится на внутригрупповые различия, и лишь 5–7 % – на различия между группами. Генетические различия между популяциями слишком малы, чтобы объяснить известную нам разницу в обычаях, практиках и языках[19].
Феномен иммиграции тоже противоречит исключительно генетическому объяснению различий в нашем поведении. Вспомните упомянутые выше отличия между восточным холистическим и западным аналитическим стилем мышления. Что происходит, когда люди, выросшие в Азии, эмигрируют в Северную Америку или наоборот? Наследуют ли дети иммигрантов психологические черты своих родителей – то есть получают ли они их генетическим путем? Или, возможно, дети иммигрантов перенимают психологические черты общества, в котором живут, – то есть получают их культурным путем? Данные однозначно свидетельствуют в пользу второго – культурного – объяснения. Когда жители Восточной Азии переезжают в Северную Америку, первое поколение, как правило, сохраняет психологические черты родного общества. Но их дети, выросшие в США или Канаде, становятся психологически намного ближе к западному обществу, чем к обществу своих родителей. У третьего поколения людей восточного происхождения психологические черты уже неотличимы от их ровесников европейского происхождения[20]. Два поколения – это слишком короткий срок для существенных генетических изменений, а значит, причина кроется в ассимиляции местной культурой.
Другие аспекты человеческого поведения могут изменяться еще быстрее, все больше исключая генетические объяснения. Например, технологии изменились необычайно быстро за последние несколько столетий[21]: лишь 66 лет отделяют первый полет братьев Райт от момента, когда Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. Социальные нормы тоже изменились кардинальным образом за относительно короткое время: лишь 45 лет отделяют Закон о гражданских правах 1964 года, прекративший расовую сегрегацию в США, от избрания в 2008 году первого президента-афроамериканца Барака Обамы. Эти временные отрезки примерно соответствуют одному или, максимум, двум биологическим поколениям. Если учесть, что генетическая эволюция происходит постепенно на протяжении многих поколений, то гены попросту не могут объяснить такие резкие изменения. И это лишь наиболее весомые изменения – задумайтесь о стилях одежды или поп-музыки, меняющихся за считанные недели или месяцы[22].
Дополнительный аргумент: дети впитывают культуру как губки. Приведенные примеры свидетельствуют в пользу того, что многие различия между сообществами можно объяснить с помощью культурной передачи: люди получают знания, обычаи, ценности и т. д. от других членов их общества. Исследования особенностей обучения у детей подтверждают этот вывод. Дети, по всей видимости, предрасположены к тому, чтобы быстро и автоматически усваивать огромные объемы информации от других людей. Они своего рода «губки, впитывающие культуру», всасывающие знания из окружающих. Хорошо известный пример – это язык. К совершеннолетию человек обладает словарным запасом, насчитывающим приблизительно 60 000 слов. Это означает, что дети выучивают в среднем 8–10 слов в день[23]. Любой, кто пробовал учить второй язык во взрослом возрасте, подтвердит, что это непростая задача. При этом дети делают это без каких-либо указаний. Это общее наблюдение распространяется не только на слова, но и на все остальные умения и навыки. Например, в недавнем исследовании, проведенном психологами Дереком Лайонзом, Эндрю Янгом и Фрэнком Кейлом, взрослый показывал детям от трех до пяти лет, как открыть необычную коробку, чтобы достать спрятанную внутри игрушку[24]. Некоторые из действий взрослого имели смысл (например, откручивание крышки), но некоторые были бессмысленными (например, постукивание по стенке коробки пером). Несмотря на кажущуюся бессмысленность этих действий, дети воспроизводили их точно. Даже если взрослый прямо называл эти действия «глупыми и лишними», дети делали это, когда оставались одни, без явного присмотра, а их задача состояла в том, чтобы открыть коробку как можно скорее: тогда они получали вознаграждение. Короче говоря, дети просто не могут не подражать.
Эволюционный антрополог Майкл Томаселло утверждает, что именно наша способность быстро и точно усваивать информацию посредством культуры отличает нас от других видов животных. Одно исследование, проведенное Эстер Херманн, Томаселло и другими, подкрепляет это утверждение[25]. Ученые провели ряд тестов на интеллект с двухлетними детьми, взрослыми шимпанзе и взрослыми орангутанами. Некоторые из тестов проверяли физический интеллект: например, способность следить за количеством предъявляемых объектов или же использовать инструмент для добывания пищи. Другие тесты проверяли то, что Херманн и ее коллеги назвали культурным интеллектом: например, имитацию решения некоторой проблемы, общение с экспериментатором для получения вознаграждения или же способность считывать направление взгляда экспериментатора. Ученые практически не нашли различий между детьми, шимпанзе и орангутанами ни в одном из тестов на физический интеллект. Но в тестах на культурный интеллект дети существенно превзошли представителей других видов. Уже в таком раннем возрасте мозг ребенка приспособлен к получению информации от окружающих. Эта находка была подтверждена многими другими исследованиями[26].
Культура – это генетическая адаптация. Более абстрактным аргументом в пользу того, что люди – это культурный вид, являются теоретические модели. Они демонстрируют, что усвоение информации культурным путем во многих случаях является адаптивным[27]. Иными словами, для наших генов часто бывает полезно (образно говоря) перестать контролировать наше поведение и «передать вожжи» культуре. Возможно, это звучит странно, однако теоретические модели показывают, в каком смысле культура, с точки зрения эволюции, является адаптивной. Как правило, эти модели предполагают популяцию гипотетических индивидов, задача которых состоит в том, чтобы установить, какое «поведение» правильное и соответствует некоторой среде: например, какую пищу можно употреблять или какие внешние сигналы обозначают угрозы, которых им стоит избегать. Предполагается, что каждый индивид относится к одному из трех генотипов, предполагающих разные способы поиска наилучшего поведения. «Врожденный» генотип предопределяет поведение носителя на генетическом уровне; это поведение нельзя изменить посредством научения на протяжении жизни. Генотип «индивидуального научения» заставляет людей случайным образом пробовать разные виды поведения и останавливаться на тех, которые приносят наибольшую пользу. «Культурный» генотип заставляет его носителей копировать поведение других индивидов в популяции. Затем создатель модели позволяет разным типам индивидов соперничать между собой на протяжении нескольких поколений, чтобы определить, какой генотип наиболее эффективен.
Согласно этим моделям, именно научение – индивидуальное или культурное – оказывается выгоднее, чем врожденное поведение. Это особенно касается быстро меняющейся среды, так как гены не успевают отреагировать на резкие изменения, которые могут произойти на протяжении одного биологического поколения. Получаемые нами от родителей гены прочно закреплены и не могут напрямую предупредить какие-либо изменения в мире. Индивидуальное научение дает генам возможность реагировать на резкие изменения в рамках одного поколения: если появляется новый потенциальный источник еды, с помощью индивидуального научения можно определить, является ли он съедобным, если появляется новый потенциальный хищник, то можно понять, насколько он опасен. Однако индивидуальное научение может дорого обойтись: новые виды еды, которые вы пробуете, могут оказаться ядовитыми. Культура позволяет нам снизить риски: есть пищу, которую едят другие, – это куда более безопасный способ разобраться в новой еде, особенно если можно посмотреть, заболевают ли они[28]. Культура также дает возможность создавать и использовать вещи, которых один человек никогда не изобрел бы с нуля, посредством индивидуального научения: например, автомобиль или компьютер. Теоретические исследования, указывающие на то, что культура может быть генетической адаптацией, согласуются с другими аргументами, приведенными ранее, в пользу того, что большая часть человеческого поведения определяется культурой, а не генами или индивидуальным научением.
15
Известная критика неспособности когнитивной психологии провести полноценное различие между индивидуальными и социальными влияниями приведена в: Бандура 2000; Bandura 1977; см. также недавнюю критику: Goldstone, Roberts, and Gureckis 2008. Критику зацикленности экономистов на индивиде см. в: Gintis 2007. Примеры культурной экологии можно найти в: Steward 1955; Harris 1989.
16
См., например: Tooby and Cosmides 1992; Gangestad, Haselton, and Buss 2006.
17
Hewlett, De Silvestri, and Guglielmino 2002. См. также похожее более раннее исследование: Guglielmino et al. 1995, в котором не было обнаружено никаких культурных признаков, зависимых от экологии. Еще одно подтверждение роли культурного происхождения – культурные филогении, речь о которых идет в главе 4.
18
Plomin et al. 2003.
19
О генетических различиях внутри популяций и между разными популяциями см.: Rosenberg et al. 2002; о генетических и культурных различиях между популяциями см.: Bell, Richerson, and McElreath 2009. Аргументы против генетических межгрупповых различий в IQ приведены в: Nisbett 1998.
20
См., например: Norenzayan et al. 2002; Heine and Norenzayan 2006: 261.
21
Об истории техники см.: Basalla 1988; Petroski 1994; Vincenti 1993. Об истории науки см.: Wilder 1968; Hull 1988.
22
Bentley, Hahn, and Shennan 2004.
23
McMurray 2007.
24
Lyons, Young, and Keil 2007.
25
Herrmann et al. 2007.
26
См. главу 9, а также обзорные работы: Tomasello et al. 2005; Csibra and Gergely 2009.
27
Aoki, Wakano, and Feldman 2005; Boyd and Richerson 1995.
28
Алан Роджерс (Rogers 1988) указал на проблематичность идеи об адаптивности культуры из-за ее меньшей затратности по сравнению с индивидуальным обучением. Если большинство индивидов в популяции будут копировать других вместо того, чтобы учиться самостоятельно, то некому будет реагировать на изменения окружающей среды, и копирование в итоге станет воспроизводить неправильную, устаревшую информацию. Бойд и Ричерсон (Boyd and Richerson 1995) продемонстрировали, что на самом деле культурное обучение предпочтительнее индивидуального обучения лишь в том случае, когда индивиды могут переключаться с одного вида обучения на другой, используя культурное обучение в случаях, когда индивидуальное обучение слишком затратно и когда культура кумулятивна.