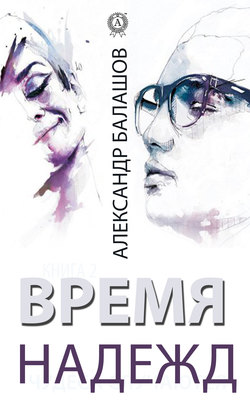Читать книгу Время надежд - Александр Балашов - Страница 3
Глава 2
КАК СТАНОВЯТСЯ ПОЛИГЛОТАМИ
ОглавлениеЭто я, наверное, впитал в себя, в своё подсознание, которое возраста не имеет, вместе с материнским, а потом и козьим, коровьим молоком моих родных бабушек. Уже тогда меня мучил сакраментальный вопрос: откуда у меня взялась привычка петь вместо того, чтобы плакать или говорить, как все нормальные дети? Что это? Дар или проклятие? Благо или болезнь? Этими вопросами я мучил своих домочадцев. И все они дружно отмахивались от меня, как от назойливой мухи, которая по утрам не даёт досмотреть сон, сулящий прибыль и благоденствие.
И только один мой очень далёкий родственник, с которым меня свела судьба на пятом году жизни, одобрял мои поиски «момента истины». Звал я этого далёкого родственника по-родственному – «дядя Гриша». Приходится ли такой дядя «дядей» я, честно говоря, не знаю и до сего дня.
Григорий Богданович Носенко жил в Макеевке, на Донбассе. И был женат на старшей маминой сестре – на тёте Ире. Как тётя Ира попала на Донбасс, для меня это загадка. Пути Господни неисповедимы. Бабушка Прасковья, мама моей мамы, тёти Иры, тёти Кати и тёти Ани, не шибко любила дядю Гришу, называя его «вредным хохлом» и «копчёным». (Забегая вперёд, скажу: к этому «вредному» и «копчёному» на временное проживание сперва попали я и мама, а после смерти деда Паши – и бабушка Прасковья. Судьбу, как я уже говорил выше, даже на кривой оглобле не объедешь).
– Дядя Гриша, а почему я запел раньше, чем заговорил? – пытал я Копчёного. – Мой ум не даёт мне ответа.
Дядя Гриша, худой, костистый, загорелый, будто действительно закопченный в коптильне родственник, пожёвывая обвислый ус, не упускал случая воспитать меня на свой, «хохляцкий лад».
– Свий разум май, а людей питай, – говорил он мне, гладя «против шёрстки», то есть ероша шершавой шоферской ладонью мои волосы. – Так слово до слова, Сашко, складёться твоя мова. Жаль, шо не радяньска, а москальска мова. Шо будешь робить: яки мати та батько – таке и дитятко. Нечёго, ничёго… Ты у моей хате, я тя нашей мове обучу. Гарно спевати и балакать станешь, хлопчик.
Без переводчика, роль которого иногда выполняла моя мама, я редко понимал Копчёного. Тогда я считал, что Копчёный специально коверкает русский язык, насмехаясь над нами.
Я злился, когда он говорил: «Тащи на стол писюнець!». Что за «писюнець»? Чей «писюнець»? Оказывалось, что писюнець – это по-украински чайник. А когда садились за стол и не хватало кому-то стула, то Копчёный орал на тётю Иру: «Иде ишо подсричник?!» «Подсричником» он называл стул. Привезёт, бывало, зерно для кур и поросят, начнёт из мешка отсыпать, не осиливая поднять трёхпудовую тару, и кричит на весь двор почти матюком: «Иде, черти, педрахуй?», – ведро, значит. Разве в нормальном языке обыкновенное ведро будет так грязно называться? Мама, переводя непонятные мне слова, частенько краснела и прыскала в кулак смущённым смехом.
И всё-то в его речи, казалось мне, было не по-людски, как-то… Лук у него был не лук, а «цебуля». Моя любимая собака Джек, с которой я только и сдружился в его дворе, – «цюцик». Сам Грицко, вечно небритый и далеко не богатырь, меня за худобу «чахликом невмерущим» обзывал. Я спросил маму: «Что такое – «чахлик невмерущий?». Оказалось, так на украинском языке называется наш Кощей Бессмертный.
Мне казалось странным, что и меня, и маму с отцом дядя Гриша называл «москалями». «Какие же мы «москали»? – думал я. – «Москали» те, кто в Москве живёт. А мы к нему из Курской области вынуждены были приехать. Значит, мы – куряне».
Об этом я как-то сказал Копчёному. Дядя Гриша осклабился и, по привычке жуя кончик жидковатого уса, усмехнулся:
– Во-во, курвяне вы и исти.
В его «богатом» дворе я ходил от сарая с кабанчиками до старых пыльных вишен у забора, который отделял улицу (24-ю линию, как называлась та макеевская улица, на которой стоял дом справного хозяина дядя Гриши Носенко) бродил как неприкаянный. Походив без дела туда-сюда, а потом отсюда – туда, я заглядывал в будку своего единственного друга – потомственного «дворянина» (как шутила мама, называя породу дворняги) – доброго и приветливого Джека.
– Дай лапу, Джек! – просил я.
Пёс смотрел на меня жёлтыми глазами, громко и сладко зевал, высунув длинный красный язык, и снисходительно протягивал мне свою мохнатую лапу. И я был рад подержать в своей ладони хотя бы её, когтистую, но живую и тёплую.
Джек был моим единственным другом, которому я изливал душу и ради которого, унимая дрожь в коленках, шёл на преступление – тырил из большой зелёной тёткиной кастрюли свиные или говяжьи кости. Страшно было даже подумать, что сотворил бы со мной добрый дядя Гриша, застукай он меня на месте преступления… Копчёный страсть как любил обгладывать вываренные кости после того, как заканчивал чавкать борщом. Обглодав мосол до сахарной белизны, он задирал клеёнку и принимался неистово колотить им по столу, выбивая из кости спрятавшиеся в её глубине мозги. При каждом ударе мозговой кости об стол погребально звенела посуда, которую под стук и грюк тётя Ира, как заправская цирковая эквилибристка, разметала по кухонным полкам.
М0зги, – делая ударение на первом слоге, – обнажал свою кукурузную улыбку Копчёный. – Це гарно! Жалко, не дуже богато их в костях. И ховаются мозги глыбоко, шо хучь кувалдой их вышибай!
После дяди Гриши, понимал я, Джеку глодать уже было нечего. Однако он, зная сволочной характер хозяина, любившего после окончательной обработки костей, метко швырять их в собачью будку, осмотрительно забивался в глубину своего пёсьего дома, поглядывая оттуда на дядю Гришу горящими преданными глазами.
– Шо, бисов сын, – рычал на Джека Копчёный, – у три горла жрёшь, а проку от тя нема! Сдохни, порадуй нас, милай!
С Джеком я делился всем, чем потчевала меня мамина сестра, Ирина Павловна, женщина с настороженным взглядом серых испуганных глаз. Мне казалось, что больше всего в жизни, она боялась попасть под горячую руку своего доброго муженька. А руку у Копчёного была костлявой, цепкой. Моё ухо не раз горело огнём после его воспитательных уроков.
Молча размазывая непрошенные слёзы кулаком, я забирался под крыльцо, где в летнюю жару спасался от мух и зноя мой единственный в новой жизни друг Джек, и уже тут, вдали от чужих глаз, обняв за шерстяную шею своего верного товарища, давал волю не вылившимся слезам.
Мать всё понимала, жалела меня, вздыхала и терпела.
– Не грусти, сынок, – гладила меня она по непослушным волосам. – Год пролетит незаметно, вернётся с Чукотки отец – и мы уедем… Куда-нибудь.
– Через год! – убитым голосом восклицал я. – Так я за этот год русский язык забуду. Он меня на свою мову переучивает. Говорит, хватит трындеть на своём поганом москальском, учить, говорит, буду, як правильно балакать. И всё за ухо, за ухо своими пальцами, как крючками, цепляет!.. Больно же! У-у, учитель-мучитель…
– Ничего, ничего, – успокаивала меня мама. – Будешь знать два языка. Это не вредно. Даже полезно.
– Зачем мне два? Мне и одного хватит! Нашенского.
– Будешь потом этим, как он называется?… Полиглотом, – шутила мама.
– А вот обзываться не надо, – обижался я. – Не хочу быть живоглотом!
Живоглотом тогда в моих глазах был дядя Гриша, у которого, несмотря на врождённую худобу, был просто зверский аппетит. Он не ел, как это делали мои любимые бабушки и дедушки в деревне – не торопясь, с внутренней благодарностью за хлеб насущный и достоинством труженика, а не нахлебника поднося ложку ко рту. Он, широко раскрывая рот, глотал свой любимый борщ «с бураком да на поджаренном сале», заедая его краюхой хлеба, густо натёртым вонючим чесноком. Ну чисто живоглот, а не «наш добрый и хороший дядя Гриша», как его называла его жена, моя родная тётя – тетя Ира.
Как говорила бабушка Прасковья, сладок мёд, да не по две ж ложки в рот.