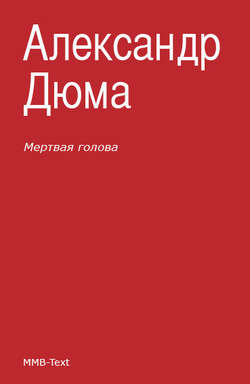Читать книгу Мертвая голова (сборник) - Александр Дюма - Страница 4
Мертвая голова
Часть первая
Антония
ОглавлениеКогда Антония появилась на пороге комнаты, она показалась Гофману в тысячу раз очаровательнее, чем в ту минуту, когда он видел ее сходящей по ступеням церкви. Зеркало, в котором Гофман заметил отражение девушки, стояло в двух шагах от него, и он мог одним взглядом окинуть прелестный образ, так быстро исчезнувший в прошлый раз.
Антонии едва исполнилось семнадцать; она была среднего роста, стан ее был гибким, а лицо – бледным, но не из-за болезни. Сравнения с лилией, что покачивается на стебле, пальмой, которую гнет ветер, были бы недостаточны, чтобы описать это хрупкое создание. Morbidezza[4] – единственное итальянское слово, способное передать те нежные чувства, что вызывала Антония. Мать ее, подобно Джульетте, была прекраснейшим весенним цветком Вероны, и это только прибавляло Антонии особой прелести: в ней отразилась красота двух народов, не слившихся воедино, но борющихся за пальму первенства. Так, нежная кожа, отличающая северных женщин, сочеталась в девушке с живым румянцем, играющим на щеках женщин юга; ее воздушные белокурые волосы, ниспадавшие на плечи, обрамляли лицо и оттеняли темные изящные брови. Но больше всего удивляло причудливое смешение двух языков в ее мелодичной речи: когда Антония говорила по-немецки, то в ее словах появлялась нежность наречия Данте и смягчала грубый выговор Германии; когда же, напротив, она говорила по-итальянски, язык, слишком изнеженный Метастазио и Гольдони, обретал твердость наречия Шиллера и Гете.
Но не только во внешности девушки проявлялось это смешение: в нравственном смысле Антония представляла собой чудное и редкое сочетание контрастов – итальянского солнца и немецких туманов. Она в одно и то же время была и музой, и чародейкой, Лорелеей из баллады и Беатриче из «Божественной комедии». А все потому, что Антония, артистка в душе, была дочерью великой артистки. Ее мать, высоко ценившая итальянскую музыку, однажды вступила в борьбу с немецкой музыкой.
Партия «Альцесты» Глюка попалась ей как-то под руку, и она уговорила мужа, маэстро Готлиба, перевести ей поэму на итальянский язык. Когда дело было сделано, она решилась петь ее в Вене. Но мать Антонии слишком понадеялась на свои силы, или, лучше сказать, дивная певица не знала предела своей чувствительности. На третье представление оперы, имевшей чрезвычайный успех, она при исполнении чудного соло Альцесты:
Divinités du styx, mnistres de la mort,
Je n’invoquerai pas votre pitié cruelle.
J’enlève un tendre époux à sen funeste sort
Mais je vous abandonne une épouse fidèle[5].
– достигла ré, которое взяла полной грудью, потом вдруг побледнела, пошатнулась и упала без чувств. Что-то оборвалось у нее внутри: жертва адским богам была принесена – мать Антонии скончалась.
Бедный маэстро Готлиб в ту злосчастную минуту дирижировал оркестром. Со своего места он видел, как побледнела, пошатнулась и упала та, кого он любил больше всех на свете. Кроме того, он слышал, как оборвалась в груди струна, связывавшая ее с жизнью, и маэстро испустил ужасный крик, слившийся с последним вздохом артистки.
Потому, быть может, маэстро Готлиб и ненавидел немецкую музыку. Господин Глюк убил его Терезу, конечно, сам того не желая, но это не мешало маэстро желать ему смерти. Глубокая рана Готлиба стала затягиваться, когда начала подрастать Антония, на которую он и перенес любовь к ее матери.
Теперь, в свои семнадцать лет, девушка заменила старику все – Готлиб жил Антонией, дышал Антонией. Мысли о смерти дочери никогда не посещали его, но если бы они и возникли, то не встревожили бы его, потому что он не мог даже представить себе, что переживет Антонию. Маэстро с чувством не менее восторженным, но не таким порочным, как чувство Гофмана, приветствовал Антонию в своем кабинете.
Девушка медленно приближалась, две слезинки блестели на ее ресницах. Сделав три шага к Гофману, она протянула ему руку и без всякой неловкости, так, будто она была знакома с этим молодым человеком уже много лет, произнесла:
– Здравствуй, брат!
С той самой минуты, как дочь появилась в дверях, маэстро Готлиб оставался безмолвен и неподвижен. Как и всегда бывало, его душа, казалось, покинула тело и порхала над Антонией, распевая оды любви и счастью, которые возникают в сердце отца при виде любимой дочери.
Маэстро положил обожаемый шедевр Антонио Амати на стол и, скрестив руки на груди, не сводил глаз со своего дитяти. Что до Гофмана, то он не знал, сон это был или явь, находится он на небесах или на земле. Юноша едва не отшатнулся, когда увидел Антонию, приблизившуюся к нему, протянувшую ему руку и назвавшую братом.
– Вы – сестра моя? – сказал он, задыхаясь.
– Да, – ответила Антония, – не кровь, а душа определяет родство. Цветы – не сходны ли они все своим благоуханием, все артисты – не собратья ли они по искусству? Я никогда вас прежде не видела, но я вас знаю, ваш смычок пересказал мне всю вашу жизнь. Вы поэт, бедный друг, немного сумасбродный. Увы, та огненная искра безумия, которой наделил вас Бог, сжигает ваш разум и сердце!.. – Потом, обращаясь к маэстро Готлибу, девушка продолжила: – Здравствуйте, отец, вы не забыли поцеловать вашу Антонию? Ах, да, понимаю, «Matrimonio segreto», «Stabat mater»[6], Чимароза, Перголезе, Порпора… Что значит Антония по сравнению с этими великими гениями? Я всего лишь бедное дитя, которое любит вас, но забыто вами ради них.
– Забыть тебя? – закричал Готлиб. – Чтобы старый Мурр забыл Антонию? Отец оставил дочь? Чего ради? Из-за нескольких музыкальных нот, из-за каких-то несчастных диезов и бемолей! Как бы не так! Смотри же!
И, ловко повернувшись на одной ноге, другой маэстро принялся расшвыривать партитуры «Matrimonio segreto», приготовленные уже для раздачи музыкантам.
– Отец! Отец! – воскликнула Антония.
– Огня мне, огня! – не унимался маэстро Готлиб. – Чтобы я мог все сжечь! Сжечь Перголезе! Огня, сжечь Чимарозу! Сжечь Паизиелло! Огня, сжечь моих страдивари, моих грамуло! Сжечь моего амати! Не сказала ли только что моя дочь, моя милая Антония, что струны, дерево и бумагу я люблю больше, чем свою плоть и кровь? Огня! Огня!! Огня!!!
Старик, прыгая на одной ноге, метался как сумасшедший, размахивая руками, как ветряная мельница. Антония смотрела на это безумие с едва заметной улыбкой, в которой читалось удовлетворенное дочернее самолюбие. Она, позволявшая себе кокетство только с отцом, хорошо знала о своей власти над стариком: его сердце было территорией, где она царствовала безраздельно. Девушка тотчас остановила маэстро, привлекла его к себе и нежно поцеловала в лоб.
Старик, испустив радостный крик, взял дочь на руки, поднял ее, как птичку, и, сделав с ней три или четыре круга по комнате, уселся на большом диване, где начал баюкать Антонию, как мать баюкает дитя.
Гофман с ужасом наблюдал за маэстро Готлибом: когда он поднял на руки свою дочь, юноша принял его за сумасшедшего. Но спокойствие Антонии и ее улыбка успокоили Гофмана. Почтительно поднимая разлетевшиеся во все стороны партитуры, он раскладывал их на столе и пюпитрах, но продолжал посматривать одним глазом на это странное действо, имевшее, однако, свое очарование.
Вдруг что-то нежное, сладостное, воздушное, подобное облаку или мелодии воспарило в пространстве – то был голос Антонии, которая, поддавшись вдохновению, запела чудное творение Страделлы, «Piètà, Signore»[7], согласно легенде спасшее жизнь своему автору.
Услышав эти дивные звуки, Гофман замер на месте, словно зачарованный, между тем как старый Готлиб осторожно приподнял дочь с колен и, стараясь не прерывать ее пение, пересадил на диван. Потом маэстро взял скрипку Антонио Амати и подчинил гармонию смычка словам, что пела Антония, дополняя их.
У девушки было сопрано, обладавшее такой силой, которую Господь только мог даровать голосу женщины. Антония пробегала пять октав с половиной; она так же свободно брала «контр-ут», эту поистине божественную ноту, и «ут» пятой октавы басовых нот. Никогда и ничто так не услаждало слух Гофмана, как эти первые четыре такта, исполненные без аккомпанемента: «Ріètà, Signore, di me dolente».[8] Этот глас души, обращенный к Богу, эта пламенная мольба сжалиться над отчаявшимися выражала устами Антонии чувство кроткого умиления. Со своей стороны, скрипка, подхватившая где-то между небом и землей этот воздушный фимиам и, так сказать, принявшая его в свои объятия после умирающего «ля», вторила ему легко и тихо, как жалобное эхо, и была под стать этому грустному голосу, вместе с которым плакала. Она говорила не по-итальянски, не по-французски, не по-немецки, но на этом всемирном языке, имя которому – музыка.
«Господи, помилуй, помилуй меня в скорби моей! Господи, помилуй меня, и если услышишь молитву мою, то да утихнет буря и да воззрятся на меня очи твои не с гневом, но с милосердием!»
Аккомпанемент, неотступно следуя за исполнением, охватывая этот дивный голос, оставлял ему всю свободу и полноту; это была ласка, а не оковы, опора, а не принуждение. При первом сфорцандо, когда на «ре» и двух «фа» голос поднялся так высоко, будто пытался вознестись к небесам, аккомпанемент, казалось, побоялся быть ему в тягость, как вещь земная, и предоставил его собственному полету, чтобы поддержать на «ми бекар», когда тот, утомленный сделанным усилием, ослабел и начал опускаться.
Потом, когда Антония пела: «Боже великий! Да никогда не буду я проклята и ввергнута в вечный огонь!» – аккомпанемент вновь решился присоединиться к дрожащему голосу девушки, которая, узрев вечный огонь, молила Господа о спасении. Тогда и аккомпанемент так же молил, плакал, стенал, поднимался вместе с голосом до «фа», опускался до «ут», поддерживая его, придавая ему мужества перед лицом страха. Когда же голос, обессиленный, умирал в груди Антонии, аккомпанемент уподоблялся жалобным молитвам живущих, которые сопровождают отлетевшую душу в ее путешествии на небо.
Потом вдруг в стенания скрипки маэстро Готлиба влилась сама гармония, сладостная и вместе с тем могущественная. Антония приподнялась на локте, маэстро Готлиб повернулся в ту сторону, откуда раздавался этот новый звук, и смычок его замер на струнах скрипки. Гофман, оправившись от изумления, упоенный услышанным, понял, что страждущей душе нужно немного надежды и что она не выдержит этой муки, если божественный луч не укажет ей неба. Юноша бросился к органу, нажал на его клавиши, и, инструмент, испустив глубокий вздох, присоединился к скрипке Готлиба и сопрано Антонии.
Утешившийся голос, повторявший молитву «Piиtа, Signore», был необыкновенен. Не преследуемая более страхом, как в первый раз, но полная веры в свой гений и свою молитву, Антония взяла «фа». Дрожь пробежала по телу старого Готлиба, а из уст Гофмана вырвался крик, который вместе с гармоническими потоками, изливавшимися из органа, заглушил амати и завершил исполнение Антонии, когда она сама уже смолкла, а душа ее, казалось, на крыльях ветра унеслась к стопам Господа всемогущего и милосердного. Потом воцарилась тишина; все трое переглянулись, и их руки соединились, а души слились в гармонии.
С этой минуты не только Антония стала называть Гофмана братом, но и старый Готлиб Мурр обращался к нему как к сыну.