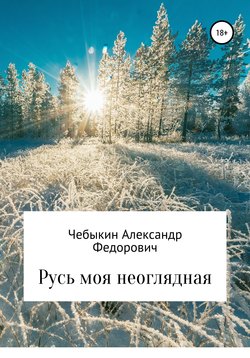Читать книгу Русь моя неоглядная - Александр Федорович Чебыкин - Страница 18
Глава 1. Русь и русичи
Вороний глаз
ОглавлениеВ глухих еловых лесах Прикамья растет цветок Вороний глаз. Говорят, цветет белой звездочкой, но цвет редко кто видел. Но одинокий ярко-черный плод на ярко-зеленом чашелистике виден издалека. В народе прозвали эту ягоду «Вороний глаз». В деревне было поверье, что это чертов глаз. Знахарки использовали его как приворотное зелье. Скот его обходил. Лошади и коровы фыркали и пятились, только козы обнюхивали, а затем отскакивали, как ужаленные. Взрослые предупреждали детей, чтобы к цветку-ягоде не подходили и в руки не брали – это дурман ядовитый.
Иван, сорокалетний мужик, длинноногий, большеголовый, с кудрями русых волос, в розовой косоворотке, прощался на росстани с односельчанами, вытирая слезинки рукавом рубахи. Рядом с ним с вещевым мешком через плечо стоял двухметровый парень с челкой белесых волос, тоскливо улыбающийся, крестник Степан. Степан тормошил Ивана: «Крестный, пойдем, мужики из соседней деревни ждут, с подводы машут».
Шло лето 1942 года. Немцы рвались к Сталинграду. Ивана как тракториста в первый год войны не брали, а тут повестка, он сообщил в город крестнику, который после окончания техникума работал мастером на оборонном Мотовилихинском заводе. На последнем курсе техникума женился; в жены взял фельшерицу из соседней деревни, ладную, статную, голубоглазую красавицу Надю Ложкину. У них росли две девчушки-погодки: Люба и Вера. Когда Степан узнал, что крестному пришла повестка, он побежал в заводоуправление, но там сказали, что на него бронь. Два дня бегал то в военкомат, то в заводоуправление, пока не добился, чтобы сняли бронь.
Два сына Ивана в прошлом году были взяты в ФЗО, учились при шахте в городе Кызеле. Две деревушки, Поварешки и Ложки, разделяла речонка Дубровка. В Поварешках – все Поварешкины, а в Ложках – все Ложкины.
За долгую жизнь жители деревень перероднились: переженились, перекумовались. Все братаны, тетки, крестные, крестники, кумовья, сватовья. Но деревни находились в разных районах, граница – речка Дубровка. На игрищах, на свадьбах, на проводах все вместе. Как сойдутся деревенские парни, так и незлобно дразнятся: «Эй, вы Поварешки-мутовки…, эй, вы Ложки-квашенки», и в таком духе. Жена Ивану попалась сварливая, ленивая, почти двадцать лет промучился. Вроде женился по любви, в девках была ласковая, приветливая. Через месяц после свадьбы пошли недомолвки.
С утра Ивану команды: «Сходи за водой, напои скотину, дров в избу принеси, помои вынеси». Сама в кровати вылеживается, жалится, что плохо спала ночью. Дальше – больше. Иван с работы – ему команда: «Капусту полей, в баню воду наноси». Сидит на лавке пухнет, широкая стала, в двери боком еле проходит. Ивана понукает, ребят гоняет. Иван, управившись по дому, стал уходить к крестнику. Степана растили дед с бабкой. Родители уехали на стройки пятилетки, там и остались. Иван управлялся с хозяйством у себя и помогал Степану. У деда с бабой был покой и ласка.
Уходя на фронт, Иван не шибко горевал. Сыновья устроены, баба еще не старая, крепкая, здоровая – пусть попробует поуправляться с хозяйством сама. Девочек Степана Иван любил, как своих родных. Они не выговаривали «крестный» и звали его «Красный Иван». Надя относилась к Ивану, как к отцу. Родного отца не помнит, погиб где-то под Спасском Дальним.
Иван попал в артиллерию ездовым. Главное его дело было беречь лошадей. Иван относился к своим обязанностям ревностно. Его лошадки, как у других, не голодали, он всегда находил где-нибудь корм. От Степана-крестника получил всего одно письмецо из Сталинграда, где он просил, в случае гибели, помочь растить детей, едва ли Надя найдет себе другого мужа, да и из кого искать, коли тут, в Сталинграде, защищая город, гибнет столько молодежи.
Перед новым годом Иван получил письмо от Нади, где она сообщила горестную весть, что в Сталинграде погиб Степан, но она все равно будет его ждать до конца войны, а вдруг ошибка, может, лежит где-нибудь раненый в госпитале. Иван вернулся домой в июле 1945 года в звании старшины с тремя медалями: «За штурм Кенигсберга», «За Отвагу», «За Боевые заслуги». Жена встретила неласково. Дома были сыновья, ушли из шахты, устроились в МТС слесарями, один за другим поженились. Невестки не ладили, в доме стоял содом, хозяйством толком никто не занимался. Иван часто помогал Надежде по хозяйству. Через год старшая Люба пошла в школу. В апреле, в водополь из школы домой шла в валенках по раскисшему снегу. Простудилась. Заболела. Три дня с высокой температурой металась в бреду. Надя определила воспаление легких, надо везти в районную больницу, но дороги растаяли: ни пройти, ни проехать. Иван укутал Любу в полушубок и понес в район за 15 километров. Две недели от не отходил от ее постели, пока не выздоровела. Обратно возвратились перед маем. Солнце палило, дороги просохли, на полях таял снег, и ярко зеленели озимые. Надя выбежала встречать. От радости плакала навзрыд. Обнимала Ивана, упала на колени, целовала ноги. Благодарила за спасение дочери.
Деревенские бабы стали подзуживать жену Ивана: «Смотри, потеряешь мужика, уйдет к другой. Сейчас на две деревни пять мужиков. Тебе одной повезло: у тебя сразу трое в доме». Жена Ивана в тот же день побежала к бабке Макарихе. Все знали, что она умеет и присушивать, и отсушивать. Бабка Макариха охала и вздыхала, когда жена Ивана рассказала обо всем. «Знаю, знаю, слыхала, давно тебя поджидаю, – судачила Макариха. – Вот дам тебе ягодки «Вороньего глаза», ты настой из них сделай и подливай Ивану в еду, питье и приговаривай: «Как ты ягоды одна-одинешенька возрастаешь, так Иван пусть будет один…».
Иванова жена завозмущалась: «Это ведь отрава – умрет». Макариха в ответ: «Не умрет сразу, чахнуть будет потихонечку, да и зачем тебе такой мужик, ни тебе, ни людям». Ивана стало часто рвать, кружилась голова, ноги подкашивались, на двор ходил с кровью, через месяц совсем слег. Надежда переживала, посылала дочерей узнать, в чем дело. Иван объяснял: «Это у меня фронтовые болячки выходят, в мороз и дождь спал на земле вместе с лошадьми, испростыл весь». Надежде передали, что Ивану совсем плохо.
Надежда запрягла лошадь, набросала в телегу свежего сена, поехала за Иваном. Дома никого не было. Все были на работе, кроме внуков и одной из невесток. Надя с дочерьми перетащила обессилившего Ивана в телегу, привезла домой, осмотрела. Прибежали соседи, посоветовали немедленно везти в город. Три дня обследовали Ивана в городской больнице. Сделали рентген желудка и кишечника. Сказали, что все изъедено язвами. В крови обнаружили яд, похожий на дурман. Поставили диагноз – не жилец. Надя везла домой Ивана и все дорогу плакала. Привезла домой. Затопила баню, обмыла. Стала отпаивать парным молоком. Через неделю у Ивана на щеках появился румянец. Надя через день топила баню и парила его березовым веником в легком пару. Поила настоем трав на меду. Неделю поила мочегонным, другую потогонным. Через месяц Иван ходил на двор сам. Жена Ивана ни разу не пришла, только с Макарихой распускали разные сплетни по деревням. К новому году Иван оклемался, стал что-то мастерить по дому: шкафы, табуретки. На масленицу ходил в березняк, нарубил держаков к лопатам, вилам, притащил несколько вязанок веток для метелок. На базаре метлы дали хорошую выручку. Из весеннего ивняка плел корзины, которые шли нарасхват.
На троицу Надежда заявила Ивану: «Не отпущу тебя никуда, опять там над тобою будут издеваться и изведут тебя. Не отдам тебя никому. Для девчат ты стал за отца. У сыновей твоих свои семьи. Мешать будешь им».
Иван ответил: «Дай подумать денек-другой». Два дня сидел на завалинке, к работе не притрагивался, думал. Действительно, там я лишний, здесь больше нужен, девчат надо на ноги ставить. Я должен выполнить завещание крестника.
На третий день за завтраком Иван сказал: «Надежда, ты права, я тут нужнее, но только какой из меня жених, мне скоро пятьдесят». На что Надежда ответила: «И я немолодая, после гибели Степана прошло десять лет, нам уже не дождаться его, а ближе и роднее тебя никого нет».
Девчата бросились обнимать Ивана: «С нами, с нами, крестный».
Через год семья прибавилась – родился сын, потом второй. Иван сидел у раскрытого окна, радовался весеннему солнцу и думал: «Да, верно, жизнь бесконечна и вечна».
1999, декабрь