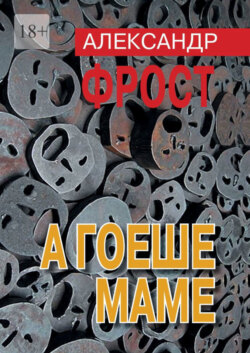Читать книгу А гоеше маме - Александр Фрост - Страница 9
А гоеше маме
8
ОглавлениеРаскроив очередной отрез, Надежда села к швейной машинке и принялась уверенно превращать нарезанные куски материи в изделие. Работа спорилась, и вскоре белоснежный пододеяльник, отглаженный и аккуратно сложенный, составил компанию своим собратьям – простыне и двум наволочкам. Готовый комплект она завернула в бумагу и отложила в сторону. До прихода следующей клиентки оставалось еще достаточно времени, и Надежда взялась за платье, которое нужно было немного подкоротить и убрать в талии. Закончив и с этой работой, она зевнула, выгнув спину, потянулась и нежно погладила холодный корпус зингера. Эту, совсем еще новую, швейную машинку подарил ей два года назад хозяин пошивочного ателье, немец Карл Майер. Перед поспешным отъездом в Германию в тридцать девятом он успел распродать только часть оборудования, а остальное раздал лучшим своим работникам. Надежде таким образом достался зингер и с десяток рулонов неиспользованной материи.
К Майеру на работу Надежда устроилась ученицей сразу после окончания школы и проработала в ателье десять лет. Сначала она просто гладила готовые вещи и порола те, которые предстояло исправлять, но со временем Карл обучил Надежду шить и кроить. Он открыл ей многие секреты ремесла и постепенно превратил ее в высококлассную портниху. Будучи сам одним из лучших портных в городе, он любил с гордостью говорить, что хоть он и чистокровный немец, но евреи признают его за своего, что в портняжном деле дорогого стоит. И это было правдой. Кроме ремесла, за десять лет работы в ателье Надежда практически в совершенстве овладела немецким. Со многими клиентами Майер общался на родном языке, и знание языка было обязательным в его ателье. Перед отъездом Карл рекомендовал Надежду многим своим постоянным клиентам, и с тех пор она работала дома, ни дня не сидя без работы. Работа была для Нади не только способом зарабатывания денег, но и спасением от неурядиц в личной жизни. Постоянная занятость в делах портняжных не оставляла времени на думы о делах сердечных.
Еще со школьной скамьи она была по уши влюблена в своего соседа по улице, красавца Семку Розина. И не только она одна. Семка очень нравился и Надиной лучшей подруге Мусе. Кончилось тем, что Сема женился на Мусе, что, в общем-то, никак не повлияло на отношения подруг, просто права была мама, предупреждая, что Семка никогда не женится на староверке и нечего сохнуть по нему. А даже если бы захотел, Фирка, мамаша его, в жизни бы этого не допустила: им своих надо. В семье Котельниковых любовь единственной дочери к соседскому еврейскому парню тоже не приветствовали. Своих парней хоть отбавляй.
И такой вскоре нашелся. Вышла замуж Надежда за Васю Селезнева, веселого симпатичного парня, слесаря железнодорожных мастерских. Надин отец Андрей Васильевич, справив дочке свадьбу, оставил ей дом, решив: пусть живут как люди да детей рожают, – а сам с женой купил себе дом поменьше на Старом Фортштадте. Деньги у него водились: он был печником, имел свое дело. В городе его знали, самому Митрофанову печи клал да кафельной плиткой облицовывал. Клиенты в очередь к нему становились: знали, работу выполнит хорошо. Но, как ни старался для дочки Андрей Васильевич, молодая семейная жизнь быстро омрачилась тем обстоятельством, что Надежда никак не могла забеременеть. Вася заметно охладел к молодой жене, натянулись отношения со свекровью, и Надя пошла на прием к врачу, который после осмотра объявил ей о том, что с ней все в порядке, а проблема, по всей вероятности, в муже. Когда Надежда рассказала Васе о своем визите к врачу, он как будто взбесился, материл на чем свет стоит и молодую жену, и врача. Кричал, что здоров, как бык, и что она специально пытается свалить вину на него, но после этого с работы стал приходить поздно и пьяным. Случалось, что и бил, и тогда Надежда убегала к подруге Муське и отсиживалась там, пока Вася не уходил до утра из дому либо не засыпал. Муся очень переживала за подругу, плакала вместе с ней, но помочь ничем не могла.
Совместная жизнь с мужем день ото дня становилась все невыносимей, но все разрешилось само собой. В пьяной драке Вася ударил кого-то ножом и получил срок. Надежда носила мужу в тюрьму передачи и терпеливо ждала его возвращения, почему-то решив, что он вернется другим человеком. Но чуда не произошло. Освободившись, Вася поселился у какой-то своей бывшей подруги, а дома появился всего один раз, да и то в Надино отсутствие. Он зашел забрать свои вещи, а с ними прихватил и Надин патефон с ее любимыми пластинками. Надежде ничего не оставалось, как подать на развод. Василий не возражал. Позже она узнала, что женщина, к которой он от нее ушел, через пару месяцев, забрав патефон, выставила его на улицу.
После развода осложнились отношения и с родителями. Мать хоть и была на стороне Нади, но перечить мужу остерегалась, а Андрей Васильевич, наоборот, сторону дочери не принял и винил во всем только ее. Рассудил по-староверски: мол, раз повенчаны пред Богом – значит, так тому и быть, терпи. Терпеть Надежда не захотела и все-таки развелась. Андрей Васильевич не на шутку на дочь осерчал и заявил, что коль батькино слово не указ, так и живи, как знаешь. С тех пор виделись редко, родители ее почти не навещали, все больше она к ним. Забежит проведать, как живы-здоровы, да с матерью парой слов перекинуться, а отец не простил, сторонился.
Уже перед самой войной Муся познакомила Надю с Николаем, Семиным коллегой по работе. Николай был старше Нади, но выглядел хорошо. Высокий, интересный мужчина, он со вкусом одевался и умело ухаживал. Дарил цветы, приглашал в кино и даже один раз водил в летнее кафе на террасе Дома Единства. По работе Николай часто бывал в Риге и однажды на очередном свидании сообщил Наде по секрету, что получил предложение переехать на работу в столицу. Обещал, как только устроится, забрать ее к себе, но, уехав, об обещании забыл, и с тех пор она его больше не видела. В любви определенно не везло, и Надежда даже ходила к Верке Помидорихе снять сглаз, а заодно и в будущее заглянуть. Старуха поколдовала над Надей и сказала: «Не суетись, девка, придет твоя любовь к тебе сама, скоро придет». Первое, о чем подумала тогда Надя, – это о Николае, но от него не было ни слуху, ни духу, а потом началась война.
Бомбили уже в первый день. Пересидела, трясясь от страха, в погребе, а когда утихло, бегала в город смотреть на разрушения и на пожары. Под шумок начались грабежи. Выбивали двери магазинов, в основном продовольственных, тащили кто что может. Запасались впрок. Уже на второй день стало ясно, что город сдадут немцам. Не без боя, конечно: гарнизон занимал оборону, готовился дать врагу отпор, – но, не дожидаясь исхода боя, уже покидало в спешке город большое начальство. Эвакуировались в тыл семьи военнослужащих и партработников. Следом за отступающими частями пешком потянулись из города беженцы. Опасаясь расправы, уходили евреи. Не все, конечно. Старики уходить не хотели: помнили еще кайзеровских немцев – мол, при них никого не тронули, и сейчас обойдется. И ни бомбежка, ни рассказы о зверствах немцев над евреями в Польше, ни всеобщая паника и хлынувший в Латвию поток литовских беженцев – ничто не могло сдвинуть их с насиженных мест. Пережив ужас первых бомбежек и поддавшись всеобщему настроению, Надежда побежала к родителям на Фортштадт уговаривать уходить тоже, но отец и слушать не захотел.
– Здесь родился – здесь помру. Да и куда бежать – к красным? Так там еще быстрей подохнешь, – всего-то и сказал, а без стариков ни о какой эвакуации Надежда даже и помыслить не могла.
Забежала к Муське – там паника. Яшку в деревню буквально за два дня до войны отпустили к Иосифу, а тут, как назло, началось. Фира волосы на себе рвет, клянет невестку на чем свет стоит за то, что Яшку отпустила. Сема хотел поехать забрать да заодно и брата с семьей уговорить уходить, пока не поздно, но вернулся ни с чем. Мост перекрыт, близко никого не подпускают, кругом только и разговоров, что о диверсантах. Автобус в Силене с расписания сняли, пытался на велосипеде проскочить – назад развернули, да еще и допрос молодой энкавэдэшник учинил. Мол, все нормальные люди в сторону советской границы бегут, а ты, наоборот, к врагу навстречу просишься. Может, ты им о дислокации частей Красной армии сообщить хочешь? Как Сема ни объяснял, почему ему в Силене срочно нужно, никто его даже слушать не захотел. Хорошо еще, что отпустили, но напоследок энкавэдэшник пригрозил, что, если еще раз увидит около стратегического объекта, по законам военного времени расстреляет без суда и следствия как диверсанта. Так и остались. Да и из тех, что ушли, некоторые вернулись. Кто на подводах, кто пешком до границы добрались – а там только по советским паспортам пропускают. Где ж его взять-то, паспорт этот, если латвийские позабирали, а советские выдать не успели. А тут еще и командир пограничников к людям вышел и сказал, что, мол, немцев остановили и все могут спокойно возвращаться домой. Некоторые поверили и вернулись, а кто остался ждать – те на следующее утро границу пересекли: никто ее уже не охранял, все сбежали.
А двадцать шестого в город вступили передовые части немцев. Как оказалось, их ждали и к их приходу готовились. На улицах появились молодые люди с красно-бело-красными повязками на рукаве. Называли они себя «самоохрана». Основным родом их деятельности была охота на жидов и коммунистов, и если вторые в большинстве своем успели удрать, то первых в городе оставалось много, и у самоохранщиков был непочатый край работы. Начали с того, что выпустили приказ мужчинам-евреям собраться на базарной площади. Сема тоже хотел идти, да Муська не пустила, а кто пошел – не вернулся. Поползли слухи, что расстреляли за тюрьмой. Потом другой приказ вышел – всем евреям звезды шестиконечные нашить на грудь и на спину. Муська забегала спросить, есть ли тряпка какая-нибудь желтая. Надя нашла, сама аккуратно звезды нарезала, сама принесла, сама и нашила. А пока нашивала, Сема вслух приказ в газете читал о том, что евреям теперь делать нельзя. И получалось, что ничего им нельзя. В общественных местах не появляться, в баню не ходить, в магазинах покупки делать только в специально отведенное время, транспортом не пользоваться, ходить только пешком и по проезжей части, ни в коем случае не по тротуарам. И еще там много всего было унизительного. Страшно Наде за подругу стало и обидно, да сделать ничего нельзя, разве что поплакать вместе с Муськой, но слезами горю не поможешь. А тут и самой коснулось.
Через пару недель после прихода немцев в дом заявились двое полицейских и с ними человек в штатском костюме и с портфелем. Холодно поздоровавшись и не спросив разрешения, человек обошел дом, заглянул во все комнаты и, оставшись довольным осмотром, что-то пометил в своих бумагах.
– Одна в доме проживаете? – осведомился незнакомец.
– Одна, – ответила Надежда. – А в чем дело?
– А дело в том, что в связи с прибытием в город новых частей и нехваткой казарменных площадей для них офицеры и солдаты доблестной немецкой армии будут размещаться в домах, наиболее пригодных для постоя. И ваш дом подходит по всем статьям.
– Еще чего не хватало, – вскинулась Надежда. – Что у меня тут, постоялый двор?
– Я бы на вашем месте, милочка, почел бы за честь принимать у себя представителей армии, освободившей нас от большевистской заразы. А вы, как я понимаю, из сочувствующих бывшей власти будете, – штатский холодно улыбнулся. – А ведь за это в гестапо по головке не погладят.
– Никому я не сочувствую, а вам если зачесть, то и селите у себя…
– Ну что ж, раз по-хорошему не понимаешь, я тебе по-другому объясню, – холодно перебил Надежду незваный гость. – По законам военного времени за отказ от содействия оккупационным войскам я тебя, курва, лично прямо сейчас из дома выселю, а чтобы было тебе где ночевать, в тюрьму посажу. Ясно?
Человек в костюме больше не улыбался, смотрел волком, и Надежда поняла, что все, что он сказал, он исполнит.
– Когда гостей ожидать-то? – пошла на попятную Надя и даже попыталась улыбнуться.
– Вот так-то оно лучше, – ухмыльнулся штатский. – А гостей жди на днях, и чтоб чистота и порядок были такие же, как сегодня.
– Из староверов она, у них завсегда чисто, – кивнул на икону один из сопровождающих полицейских, но, встретив злой взгляд штатского, осекся и виновато опустил голову.
– Значит, так. Это будет твоя комната, а вот эту постоялец займет. Белье чистое постели и шифоньер освободи, чтобы он свои вещи мог сложить. Ну а об остальном – это он уже тебе сам скажет. И упаси тебя бог от того, чтобы немецкий офицер хоть на что-нибудь пожаловался. Поняла?
– Поняла, – не задавая лишних вопросов, кивнула Надежда, желая побыстрей избавиться от непрошеных гостей.
– Ну вот и хорошо, милочка, до свидания.
Выпроводив штатского и полицаев, Надежда накинула платок и побежала поделиться горем с подругой Муськой, но у Муськи было свое горе. Очередной приказ предписывал всем евреям до конца месяца переселиться в гетто – специально отведенное для них место в предмостных укреплениях за рекой. Там когда-то казармы и конюшни гарнизонного кавалерийского полка были. Место нежилое, да ничего не попишешь: не пойдешь – расстреляют. Уходили через неделю: решили, зачем ждать до последнего дня, может, потом и мест не будет. Присели на дорожку, поплакали. Сема мрачный, как не от мира сего, весь в себя ушел, молчит, Муська у подруги на плече рыдает, а Фира, когда прощались, обняла Надю и говорит:
– Хорошая ты девка, Надька. Дай бог тебе здоровья и счастья в жизни. Про нас помни, не забывай, может, кто спасется из наших – так расскажешь, как было. Чует мое сердце, не вернемся мы оттуда…
Пришла Надежда домой зареванная, глаза опухшие. Не успела платок с головы снять, как стук в дверь раздался. Прежде чем открыть, выглянула в окно – машина стоит прямо напротив ворот. Екнуло сердце: поняла, что к ней. В дом зашли трое: лет тридцати пяти офицер, подтянутый, стройный, за ним солдат с двумя большими чемоданами и тот штатский, что в первый раз приходил. Как оказалось, он работал простым переводчиком при комендатуре.
– Добрый день, фрейлейн. Оберштабсартц Мартин Кеплер, – с легким наклоном головы представился офицер.
– Он сказал… – начал было переводить штатский.
– Я поняла, что он сказал, – по-немецки перебила штатского Надежда.
– У вас, фрейлейн, очень хороший немецкий. Вы жили в Германии? – удивленно и с интересом посмотрел на Надежду офицер.
– Нет, я учила язык в школе, а потом работала у немцев много лет, и мы разговаривали только по-немецки.
– Честное слово, если бы я встретил вас в моем родном Кельне, я бы без сомнения решил, что вы немка, – улыбнулся офицер и, повернувшись к штатскому, коротко бросил: – Вы свободны.
– Идемте, я покажу вам вашу комнату.
– Вы очень любезны, фрейлейн, – офицер последовал за Надеждой, сзади подхватил чемоданы шофер.
– Мне все очень нравится, – осмотрев скромный интерьер, повернулся к застывшей на пороге Надежде офицер. – К сожалению, я вынужден вас сейчас покинуть: я должен через час заступать на дежурство в госпитале и вернусь только завтра вечером. Было очень приятно познакомиться, фрейлейн…?
– Надежда, можно просто Надя.
– Надья, – нараспев повторил имя офицер, прислушался к произнесенному и рассмеялся. – Красивое имя. До свидания, Надья.
Когда машина отъехала от дома, Надежда без сил опустилась на стул. Перед глазами стояло заплаканное лицо подруги и последние слова Фиры: «Чует мое сердце, не вернемся мы оттуда»… На душе было тяжело, и, наревевшись вдоволь, Надя решила, что завтра же пойдет к гетто выяснять, можно ли будет приходить навещать знакомых и разрешат ли передавать продукты. Господи, только б разрешили…
Мысли постепенно перешли на немецкого офицера, вспомнила, как улыбался, как напоследок смешно произнес ее имя. Невольно отметила, что симпатичен, но тут же устыдилась этой мысли, попробовала отогнать – не получилось.
«А что, действительно интересный мужчина. Ну и что, что немец? Что, среди немцев нет нормальных? Не грубил, не приказывал, хотя мог бы… – размышляла про себя Надежда. – На вид интеллигентный. Может, и обойдется».
На следующий день Надежда прямо с утра на велосипеде поехала к еврейскому гетто, но поездка оказалась бесполезной. Невзирая на предупреждающие знаки, она подъехала к постовой будке у ворот, где молодой офицер, к которому Надя обратилась со своими вопросами, прежде всего проверил ее документы и внимательно всмотрелся в лицо, выискивая возможную принадлежность к гонимой расе. Не найдя в исконно русском лице никаких намеков на иудейство, офицер, исключительно из уважения к Надиному немецкому, снизошел до объяснений. А объяснил он просто и доходчиво. Все те, кто сочувствует евреям, могут добровольно перебраться в гетто и разделить с ними их судьбу. В противном случае посоветовал убираться подобру-поздорову, и чем быстрей, тем лучше. Так и уехала Надежда ни с чем. По дороге навстречу нескончаемым потоком шли люди с нашитыми на груди и спине шестиконечными звездами. Мужчины, женщины, старики, дети. В руках мешки, тюки, чемоданы, коляски, игрушки… А с тротуаров и из раскрытых окон глазели на них бывшие соседи – кто с состраданием, кто с нескрываемым ехидством, а большинство – просто безучастно, да надрывно хрипел голосом Петра Лещенко старенький граммофон «Мою Марусечку».
С немцем Надежде действительно повезло. Целыми днями он пропадал в военном госпитале, приезжал обычно поздно вечером, да и то часто оставался на ночные дежурства. С удовольствием принимал приглашения к ужину, всегда садился за стол в форме. Спиртным не злоупотреблял, если и пил за ужином, то только вино, белое мозельское, которое где-то доставал и хранил в своей комнате под кроватью. Не позволял себе с хозяйкой никаких вольностей, да и она никаких поводов для сближения не давала. Благодушно отнесся к тому, что Надежда работает на дому и у нее часто бывают посторонние люди. Попросил только комнату его запирать и, кроме нее самой, никого туда в его отсутствие не пускать. Сказал, что в комнате у него хранится его основное богатство – целый чемодан очень дорогих книг, жизненно необходимых ему по службе. И, хотя отношения между невольными соседями сложились достаточно ровные, он все равно чувствовал, что своим незваным присутствием стесняет хозяйку, и, конечно же, понимал, что она тоже не по собственной инициативе принимает его у себя.
Не желая оставаться в долгу, оберштабсартц Кеплер всячески старался компенсировать причиняемые неудобства. Конечно, большинству солдат и офицеров Великой Германии такие мысли даже в голову не приходили. Ведь они представители высшей арийской расы, хозяева, и все эти восточные земли и их население не иначе как будущая периферия, населенная дешевой рабской силой. Так зачем с ними церемониться и забивать себе голову решением их проблем? Но он образованный человек, врач, в конце концов, а не вояка. Уже в первый день он обошел дом, долго разглядывал диковинную русскую печь, заглянул в сарай, попросив у Надежды разрешения, спустился в погреб, а уже на следующий день Курт, шофер, втащил в дом ящик мясных консервов, с десяток банок с различными немецкими джемами, свежий хлеб, мешок картошки и еще целую кучу всякой всячины, полезной на кухне. Но это было еще не все.
Пару дней спустя у дома остановился грузовик с дровами. Поверх дров сидели два военнопленных русских солдата, а в кабине кроме водителя немец-охранник. Сгрузив дрова во дворе, грузовик уехал, а охранник устроился на завалинке и, пока пленные русские таскали колотые чурки в сарай и там складывали их в аккуратные поленницы, что-то наигрывал на губной гармошке. Когда к концу дня работа была закончена, немец разрешил Надежде покормить пленных, при этом угостился сам тоже и, убедившись, что русские все съели и ничего не несут с собой в лагерь, что было строжайше запрещено, вывел их со двора. Надя вошла в сарай и застыла на пороге. Боже мой, наваждение какое-то. До потолка высились ровные ряды дров. Не веря собственным глазам, потрогала сухие березовые поленья. Еще пару дней назад она ломала голову над тем, где купить, на чем привезти, кто распилит и поколет, а тут все уже готово. Вот так повезло! У нее было такое ощущение, что с плеч свалился огромной тяжести груз. Как-то даже не верилось, что идет война, что где-то гибнут люди, что совсем рядом в нечеловеческих условиях мучаются презираемые всеми евреи и среди них – ее подруга Муська с Семой и Фирой. Вот уж точно, нет худа без добра.
Чтобы хоть как-то отблагодарить постояльца, к его приходу Надежда решила приготовить вкусный обед, наделала пирожков с капустой и картошкой и даже испекла яблочный пирог.
– Зря, Надька, из кожи вон лезешь. Не для тебя он старается – о себе думает. Поди неохота ему задницу морозить зимой, вот и готовится с лета, – посмотрев на Надины приготовления, завистливо съязвила забежавшая за солью, а заодно проведать подружку соседка Зинка. Соль, конечно, была только предлогом – на самом деле Зинку очень интересовал офицер и те блага, которые из него уже извлекла Надежда.
– А мне плевать, для кого он старается. Мне свою задницу тоже морозить зимой неохота, – продолжая заниматься своим делом, отрезала Надежда.
Видя, что подруга разговор не поддерживает, Зинка решилась зайти с другой стороны.
– А твой ничего, симпатичный, – мечтательно пропела Зинка. – Не то что мои. Только и знают, что жрать просить да шнапс свой пить, а потом песни орать.
– А с чего ты взяла, что он мой? – строго посмотрела на Зинку Надежда. – Поселили, живет – и все на том.
– А чего тебе, ты незамужняя, а с таким офицериком не грех…
– Ты чего, с ума спятила? Что ты городишь? – не на шутку разозлилась Надежда. – Я тебе что, подстилка какая-нибудь? Да пусть он хоть единственным мужиком на свете будет, но чтоб я с немцем… Да ни в жисть!
– Ну и дура, я бы ему вмиг глазки состроила и задницей покрутила. А что немец – так какая разница, мужик – он везде мужик. В койке на всех языках одинаково. Они здесь, Надька, надолго. Просто я подумала, что если уж с кем-то крутить любовь, так с обером лучше.
– С кем? – не поняла Надежда.
– Да с обером, ну с таким, как твой.
– А ты почем знаешь, кто он?
– А меня мои обучили: если погоны плетеные – так это обер, а если плоские – то это унтер. Вот у твоего как раз погоны плетеные и сапоги получше, чем у моих, да и на машине он все время приезжает. Точно большой чин.
– Да никакой он не чин, врач он военный в госпитале, – отмахнулась Надежда.
– Врач? – мечтательно закатила глаза Зинка. – Может, мне на прием к нему записаться, пускай посмотрит. А что, баба я видная, все на месте. Скажи, Надька?
– Да видная, видная, только куда тебе столько мужиков-то? Дома два и еще этот – не подавишься?
– Не волнуйся, с меня не убудет. Да и ничего у меня с моими унтерами не было. Пристают, конечно, но я с ними строго. А вот с таким, как твой, враз закрутила бы, ей-богу. Ты, Надька, того… если глаз на него положила, ты скажи, а если он свободный, так, может, познакомишь?
– Ну, допустим, познакомлю я тебя с ним. А вдруг он возьмет и уйдет к тебе, да еще и дрова заберет? – пошутила Надежда, пытаясь закончить пустой разговор. – Я тут пока с тобой болтаю, точно пирог сожгу. Давай, Зинка, так договоримся. Если вдруг станет он ко мне приставать, я его мигом к тебе отправлю, договорились?
– Договорились, – кисло согласилась Зинка и, прихватив кулечек с солью, нехотя попрощалась.
Оберштабсартц Мартин Кеплер был в хорошем расположении духа. Много ел, много пил, восторгался всем, что пробовал за столом, хвалил хозяйку и то и дело поднимал за нее очередной бокал с вином. Обычно вежливо-сдержанный и умеренный в вине, сегодня он позволил себе немного расслабиться и выпил лишнего. Обнаружив в Надежде благодарного слушателя, много говорил о себе, о родителях, о жене и детях. Из его рассказов Надя узнала, что он из семьи потомственных военных офицеров и его будущее с детства было предрешено, но у него лично не было никакого желания идти по стопам деда и отца. Поэтому, когда отпрыск объявил о своем желании идти учиться на врача, в семье это известие было встречено холодно, но в итоге обе стороны пошли на компромисс и Мартин поступил учиться в Берлинскую академию военной медицины. После окончания учебы обширные связи отца помогли молодому военному врачу получить выгодное назначение, послужившее трамплином к достаточно быстрой карьере, но Мартин не был карьеристом и не придавал большого значения своему продвижению по службе. Он был фанатично предан медицине и мог целыми сутками пропадать в госпитале, занимаясь любимым делом, уходя домой только тогда, когда валился с ног от усталости. Он много рассказывал о жене Хелене и о двух своих очаровательных дочурках, Хильде и Агнес. Заочно Надежда с семьей своего постояльца уже успела познакомиться, убирая в его отсутствие комнату. Она внимательно рассмотрела стоящую на прикроватном столике фотографию жены и детей. Хелена ей не понравилась: что-то в ней было злое, – а вот девочки были очень симпатичными.
– Господин офицер, а где, если не секрет, вы добыли уже распиленные и поколотые дрова? – воспользовавшись паузой в разговоре, спросила Надежда. – Ведь сегодня это целое богатство.
– Этим занимается интендантская служба. Я попросил – они выделили, а где они берут, не знаю, думаю, что в бесхозных еврейских домах. Им дрова больше не понадобятся, так зачем пропадать добру, – отправив в рот очередной кусок яблочного пирога и запив его вином, совершенно буднично ответил офицер, но даже от его нетрезвого взгляда не укрылась мгновенная перемена в настроении сидящей напротив Надежды.
Лицо ее побледнело, только совсем недавно улыбающиеся губы плотно сжались в тонкую нить, светло-серые глаза потемнели и стали ледяными.
– Что-то не так, вам плохо? – офицер вскочил, обошел стол и попытался взять Надину руку, чтобы проверить пульс, но она отстранилась и не позволила ему прикоснуться к себе.
– Не надо, со мной все в порядке, не волнуйтесь, господин офицер. Просто пока мы здесь пьем и едим, моя лучшая подруга, может быть, умирает с голоду в вашем проклятом еврейском гетто.
– Ваша лучшая подруга – еврейка? – недоверчиво улыбаясь, уставился на Надежду немец, но, поняв, что Надежда не шутит, вдруг стал серьезным. – Я надеюсь, Надья, что кроме меня вы об этом никому не говорили…
– Я дружу с ней со школы, и об этом знают все.
– Тогда постарайтесь сделать так, чтобы все об этом забыли. Это небезопасно. Если на вас кто-нибудь донесет ребятам из СД или гестапо, это, Надья, может очень плохо кончиться. В Берлине разработаны далеко идущие планы по поводу восточных земель, и евреи с коммунистами – это только начало. Германии нужны лояльные ей народы, и фюрер не потерпит сочувствующих врагам нации.
– Вы действительно думаете, господин офицер, что латвийские евреи – враги вашей нации? – посмотрела в глаза собеседнику Надежда.
– Так думают наверху, а значит, и я обязан так думать. Ведь я солдат, а солдаты приказы не обсуждают. Другое дело – что я напрямую не связан ни с какими боевыми операциями, но я ношу офицерскую форму и обязан исполнять свой воинский долг. Давайте, Надья, не будем больше возвращаться к этой теме: как я уже вам говорил, это небезопасно. Давайте лучше поговорим о музыке. Вам нравится Вагнер?..
Уже лежа в постели и не в силах заснуть, Надежда разочарованно думала о том, что ее постоялец оказался ничем не лучше всех остальных немцев, ну разве что не донесет на нее своему начальству, да и то – кто его знает… Эх, Муська, Муська, как ты там, подруженька… И от горечи и бессилия Надя уткнулась в подушку и тихо заплакала. Наутро, как обычно, ровно в восемь офицера забрала служебная машина, а Надежда, наскоро прибрав в его комнате и заперев ее на ключ, села за швейную машинку. Закончив срочные заказы, взглянула на настенные часы и, решив, что у нее есть еще немножко времени до прихода клиентки, взялась за легкую уборку. Мурлыча под нос модный мотив «Розамунды», Надя подмела пол и только успела протереть в комнате пыль, как раздался несмелый стук в дверь. На пороге, переминаясь с ноги на ногу, стоял мальчишка в явно великоватой для него поношенной одежде и такой же не по размеру кепке, закрывающей пол-лица. К груди он прижимал газетный кулек.
– Тебе чего, мальчик? – решив, что паренек – беспризорник или сирота, участливо спросила Надежда.
– Тетя Надя, а мамы моей у вас нет? – из-под кепки на нее с мольбой смотрели испуганные карие глаза Муськиного сына Яшки.
– Яшка, ты?! Ох, господи, боже мой! – застыла от неожиданности на пороге Надежда, уставившись широко раскрытыми глазами на сына подруги, не в силах сообразить, откуда он здесь взялся, но вдруг, словно опомнившись, схватила Яшку за рукав и затащила в дом. Набросив дверной крючок, кинулась к раскрытому настежь окну. Осторожно выглянув, посмотрела по сторонам и тут же захлопнула, плотно сдвинув занавески. Она металась по комнате из угла в угол, судорожно соображая, что делать и как сказать Яшке про родителей и бабушку.
– Яшенька, боже мой, где ж ты был? Все так волновались за тебя – и мама с папой, и бабушка. Ждали, ждали, а потом уехали…
– Куда? – Яшкины глаза наполнились слезами, и Надежда поспешила успокоить его, на ходу придумывая историю о специальном месте, куда временно высылают евреев для того, чтобы им там жилось хорошо.
– А мне туда можно? – Вопрос застал Надежду врасплох, и она не нашла ничего лучше, чем соврать опять.
– Туда, Яшенька, только взрослых забирают, а детей оставляют у знакомых, и они там живут, пока мамы с папами за ними не приедут, – Надежда еще не знала, как это практически осуществить в ее положении, когда в доме по ночам немец, а днем – вечно сующие свой нос во все клиентки, но для себя твердо и бесповоротно решила во что бы то ни стало спасти ребенка и никуда его от себя не отпускать. – Вот и твоя мама сказала, что как только ты появишься, чтобы ждал ее у меня.
– Тетя Надя, а вы мне правду говорите? – исподлобья, недоверчиво посмотрел на Надежду Яшка.
– Ну конечно, правду, Яшенька. Зачем мне тебе врать?
– Просто нам дядька в Силене тоже говорил, что нас в Браслав отправят, чтобы мы там хорошо жили, а потом всех убили. Только я остался.
– Как убили? – испуганно посмотрела на Яшку Надежда.
– Всех убили – и дядю Йосю с тетей Ривой, и Зямку с Бенькой, и еще много-много других дядек и теток.
Яшка в деталях поведал Наде всю историю, произошедшую с ним в Силене. Подробно рассказал, как сидели евреи трое суток в синагоге, как шли к озеру, как расстреляли всех, как ему чудом удалось спастись и как добрый дядька Степан довез его до города.
Надежда слушала, не перебивая, чувствуя, как стынет в жилах кровь и бегут мурашки по спине и щекам. Перед глазами стояла жуткая картина кровавой бойни, в которой чудом выжил этот невинный мальчуган, сын ее лучшей подруги Яшка Розин. Она сидела неподвижно, уставившись в одну точку, не обращая внимания на катящиеся по щекам слезы, и думала о том, как изменилась в одночасье жизнь, а вместе с ней – и люди. Еще вчера – холуи новой советской власти, а сегодня – ее заклятые враги, словно псы за кость, прислуживающие немцам. Еще вчера – добрые соседи, а сегодня – убийцы. Боже мой, что делается… Господи, спаси и сохрани…
Из оцепенения Надежду вывел стук в дверь.
– Иди туда, быстро, и ни звука. Сиди тихо-тихо, пока я тебя не позову. Понял? – наспех смахнув с лица слезы, она буквально втолкнула Яшку в свою комнату и плотно закрыла за ним дверь.
К счастью, заказчица куда-то очень спешила, а потому, второпях взглянув на сшитое для нее постельное белье, быстро расплатилась, забрала пакет и ушла.
– А зачем вы меня спрятали, тетя Надя? – испытывающе глядя в глаза Надежде, спросил Яшка, когда она открыла дверь, чтобы выпустить его из комнаты.
Надежда на какой-то миг замешкалась с ответом, но, понимая, что другого выхода нет и обман рано или поздно откроется, решилась на откровенный разговор.
– Вот что, Яша, садись, давай поговорим начистоту, – она тяжело вздохнула и присела напротив. – Ты уже взрослый мальчик, а потому не хочу я тебе врать и скажу, как есть. Твои мама с папой и бабушка находятся в еврейском гетто, это за Двиной. Туда немцы с полицаями согнали всех городских евреев, и я тебя обманула, когда сказала, что им там живется хорошо. Ничего хорошего там нет. Им и так там несладко, а если бы и ты был там, с ними, им было бы еще хуже. Ну что я тебе объясняю, ведь после того, что ты сам пережил, тебе и так понятно, как немцы относятся к вам, евреям. И было бы полбеды, если бы только немцы. Свои не лучше. Столько сволочей кругом развелось – сегодня не знаешь, кому можно верить. За-ради того, чтобы выслужиться перед немцами, люди готовы на все. Продадут за копейку и глазом не моргнут. Так что нам с тобой нужно быть очень осторожными. Сам понимаешь, если кто-то узнает, что ты здесь, нам обоим не поздоровится.
Изо всех сил сдерживая слезы, Яшка мужественно выслушал Надежду и, сглотнув подступивший к горлу ком, только спросил:
– Тетя Надя, а маму с папой и бабушку тоже убьют?
– Ну что ты, как их могут убить? Здесь же город, люди кругом. Я думаю, их подержат немного и отпустят: зимой там жить все равно нельзя.
Надежда действительно верила в такой исход событий. Еврейские дома стояли заколоченные, никто в них не вселился, и теплилась у нее надежда, что хозяева однажды вернутся. Ходили, правда, слухи о том, что расстреляли много людей за тюрьмой, на днях клиентка божилась, мол, сама видела, как за лютеранским кладбищем евреев убивали, да и местные пацаны хвалились, что на пески бегали золото искать. Но гнала от себя Надежда дурные мысли, не хотела верить в плохое. Каждый день перед иконой просила за подругу.
– Давай лучше подумаем, где тебя устроить. Я тебе сейчас что-то скажу, но ты не бойся, хорошо? – Яшка кивнул, и Надежда, собравшись с духом, выпалила: – Немец у меня живет, офицер…
Яшка моментально напрягся и стал испуганно озираться по сторонам.
– Да ты не волнуйся, – поспешила успокоить мальчишку Надя. – Он здесь только ночует, да и то не каждый день. А утром за ним машина приезжает, забирает и увозит. Если бы не он, я бы тебя в его комнату поселила или на печке постелила, но он может заметить. Давай, знаешь что, полезли на чердак, там сейчас тепло и я тебя там пока спрячу, а потом что-нибудь придумаем.
На чердак вела не приставная лестница с улицы, как у большинства соседей, а крытая, прямо из сеней. С одной стороны, это было удобно: снаружи никто ничего не мог увидеть, – но, с другой стороны, было опасно тем, что спрятаться от непрошеных гостей там было негде. В любом случае других вариантов не было, и, осмотрев чердак, Надежда решила постелить Яшке за трубой, рассудив, что и от входа не видно, и от комнаты постояльца далеко, и, если похолодает, у трубы будет тепло. Идея жизни на чердаке Яшке понравилась. Дома ему туда лазить не разрешали, но когда он изредка туда все-таки без спроса забирался, то всегда испытывал какое-то радостное чувство соприкосновения с чем-то старинным и неизвестным. Вот и сейчас, пока Надежда сооружала ему постель, таская снизу наверх разные тряпки, старые одеяла и подушки, Яшка с трепетом обследовал свое новое жилище. Чего здесь только не было. Старинные сундуки, весь в пыли граммофон с большущей трубой, какие-то инструменты в ящике, стопками перевязанные веревкой книги, потемневший от времени самовар с медалями на брюхе и даже немецкая каска времен Первой мировой войны.
– Ну вот и готово. Иди приляг, посмотри, если удобно.
Яшка лег на приготовленную Надеждой постель, повертелся из стороны в сторону и удовлетворенно улыбнулся.
– Не забоишься здесь один?
– Не-а, я один не боюсь, только полицаев и немцев…
– Не волнуйся, они сюда не придут. Только, когда кто-то в доме, ты должен сидеть здесь очень тихо, ты понял?
– Тетя Надя, не бойтесь за меня, я буду сидеть тихо-тихо.
– Ну вот и хорошо, – осмотрев еще раз постель, она уже собралась было уходить, как вдруг встрепенулась. – Боже мой! Ой, ну какая же я дура! Яшенька, да ведь ты же голодный! Пошли быстро вниз, я щи разогрею.
– Тетя Надя, а сало у вас есть?
– Сало? – Надежда непонимающе посмотрела на Яшку. – А с каких это пор ты начал сало есть?
– А мне дядька Степан дал попробовать, и мне понравилось.
– Ну раз понравилось, дам я тебе сало, только ты бабе Фире никогда об этом не рассказывай, а то она с меня шкуру живьем сдерет.
– Я никому-никому не скажу, – поклялся Яшка, спускаясь вслед за Надеждой с чердака.
– Ну вот и хорошо, теперь не надо голову ломать, чем тебя кормить. Мы ведь другую еду едим, не ту, что у вас дома готовили, но у вас всегда было все вкусно. Мне мама твоя рассказывала, как что нужно делать, да я не запомнила.
После обеда Надежда села к швейной машинке, но все валилось из рук, в голову лезли нехорошие мысли и, как ни старалась Надя отогнать их и сосредоточиться на работе, ничего не получалось. Чем меньше времени оставалось до прихода немца, тем тревожней становилось на душе.
– Почти восемь, – обреченно посмотрев на настенные часы, обняла Яшку Надежда. – Пора, он вот-вот придет. Ты помнишь, что ходить по чердаку нельзя: внизу все слышно?
– Не волнуйтесь, тетя Надя, я буду сидеть там, наверху, тихо-тихо.
– Как только он уедет завтра утром, я сразу за тобой приду, без меня не спускайся. Я там старое ведро тебе поставила. Если захочешь вдруг по нужде, писай в ведро, только старайся все делать тихо. Договорились?
Яшка кивнул и хотел уже было лезть на чердак, но Надежда остановила его.
– Погоди, я сейчас… – она метнулась к себе в комнату, порылась в шкатулке и извлекла на свет маленький староверский крестик на тонкой веревке.
– На вот, надень, и тебя от беды сбережет, и мне спокойней будет, – Надежда протянула крестик Яшке, но он протестующе замахал руками и отступил на шаг.
– Неее, бабушка сказала, что если я до креста дотронусь, то у меня руки отсохнут и отвалятся.
– Ой, и ты поверил? У меня же не отвалились, а я всю жизнь ношу. Смотри, – Надя достала свой крестик и показала Яшке. – Потом снимешь, а пока надень. Мало ли что, а так крест увидят – может, поверят, что не еврей. А кто спросит – говори, что папку своего не знаешь, жил с мамой, а она русская, и крест с рождения носишь. Понял?
– А кто спросит?
– Да никто не спросит, так, на всякий случай.
– А что сказать, если спросят, почему я здесь живу?
– Скажешь, что потерялся на станции во время бомбежки и я тебя подобрала.
Яшка кивнул, осторожно взял в руки крестик и, зажмурив глаза, надел на шею.
– Ну видишь, руки на месте, ничего не случилось. Завтра правильно креститься научу, и будешь ты у меня, как настоящий шейгец [69]. А сейчас давай, Яшенька, полезай с богом и будь умницей там. Хорошо? – Надежда обняла Яшку, поцеловала в лоб и подтолкнула к лестнице на чердак.
Ночь прошла без сна. Немец долго не ложился, читал свои книги, потом писал письма и только после одиннадцати потушил в своей комнате свет. Надежда, затаив дыхание, всю ночь с замиранием сердца прислушивалась к каждому шороху, да так и пролежала не сомкнув глаз почти до самого утра. Задремала уже с рассветом, но как только за офицером захлопнулась входная дверь, тут же вскочила с кровати и побежала в сени, к чердачной лестнице.
Яшка безмятежно спал на своем новом месте, и Надежде пришлось изрядно потрудиться, прежде чем ей удалось его окончательно разбудить. С вечера, оставшись один на чердаке, он долго не мог заснуть. Пережитое не отпускало и заставляло снова и снова прокручивать увиденное в памяти. Перед глазами то и дело вставали страшные картины последних дней. Он отчетливо видел мечущихся в поисках спасения по поляне людей, слышал оглушительный треск пулеметов, душераздирающие вопли раненых – и всюду кровь, кровь, кровь, много-много крови. На миг возник их пустой, заколоченный дом, и он вдруг остро ощутил горькое чувство одиночества, осознал, что нет больше рядом мамы с папой, нет бабы Фиры, что нет и никогда больше не будет дяди Йоси, Беньки и Зямки. Подступил к горлу ком, и Яшка дал волю слезам. Уткнувшись в подушку, он оплакивал своих родных – и уже мертвых, и еще пока живых – но внутри что-то подсказывало, что живыми он их никогда уже не увидит.
– Ну как ты тут один? – Надежда нежно провела рукой по густым Яшкиным волосам. – Не испугался ночью?
– Не-а, – мотнул он в ответ головой и улыбнулся.
– Ну молодец, и руки на месте, не отсохли, а ты боялся. Давай вставай и пойдем умываться, потом позавтракаем и будем думать, как нам жить дальше.
После завтрака, наказав Яшке никому не открывать, Надежда села на велосипед и поехала на рынок. Продавцов было немного, ибо день был небазарный, но вещевая барахолка работала всю неделю. Пройдя по лоткам, она приценилась к старенькому, но в хорошем состоянии патефону Electrola и, поторговавшись с продавцом, купила недорого с кучей пластинок в придачу. Покупку эту Надежда сделала не только из давнего желания иметь в доме патефон, но еще и для того, чтобы, заводя пластинки по вечерам, когда в доме немец, отвлекать его внимание от случайных шорохов на чердаке. Еще Надя купила несколько детских книжек для Яшки и, крепко привязав покупки к багажнику, поехала домой. Патефону Яшка очень обрадовался, а вот с книжками вышел конфуз. Читать он умел только на идиш, по-русски только говорил, и в следующую свою поездку на базар Надежда купила потрепанную азбуку. Яшка оказался способным учеником и вскоре уже сносно читал по слогам, одновременно каждый день заучивая и новые немецкие слова, которым его учила Надежда. Много слов были очень похожи на родной для Яшки идиш, и новый язык давался ему легко.
Так шли день за днем. Ночью Яшка прятался на чердаке, а днем изучал грамоту и много читал. Надежда шила, убирала, готовила, а все свободное время посвящала своему новому, тайному постояльцу. Иногда она с болью в душе замечала, как Яшка с грустью смотрит через занавески в окно на своих друзей Пашку и Юзьку, свободно бегающих по улице. Правда, с недавних пор вместе они не появлялись. Пашкин отец Федор ушел вместе с отступающими войсками в Россию и воевал где-то против немцев, а Юзькин отец пошел в полицаи, и дружить с Пашкой Юзьке было категорически запрещено. Левку же вместе с родителями загнали в гетто.
К сентябрю стало прохладно, и Надежда все чаще со страхом думала о приближающейся зиме, но выхода из сложившейся ситуации не находила. Единственным более-менее безопасным местом в доме был только чердак.
На день осеннего равноденствия, один из самых главных староверских праздников, Надежду зашли навестить старики. Они и раньше нечасто заходили, все больше она к ним, а как узнали, что у нее живет немец, так и вообще боялись показываться, но ради праздника все-таки решились. Увидев родителей в окно, Надежда шепнула Яшке, что это свои, но лучше будет, если даже и они не будут знать, что он у нее прячется. Яшка пулей взлетел на чердак и затаился за трубой. Пока Надежда накрывала на стол, мать пошла проведать бывшую свою соседку и подругу Дашку, а отец полез на чердак забрать кое-что из своего инструмента, который когда-то, при переезде в новый дом, оставил у дочери, да так он и пылился там, на чердаке. Те минуты, которые Андрей Васильевич провел на чердаке, перебирая в ящиках свои железки, для Надежды показались целой вечностью. Затаив дыхание и превратившись в слух, она пыталась угадать, что происходит наверху.
– Ну, нашел, что искал? – как бы невзначай спросила Надя, когда отец наконец-то спустился вниз.
– Нашел, – хрипловато ответил Андрей Васильевич. – И то, что искал, нашел, и то, что не искал, нашел тоже. Кто у тебя там прячется?
– Где? – сделав вид, что не понимает, о чем речь, спросила Надя, но голос предательски дрожал.
– Там, – сверля дочь пытливым взглядом, отец кивнул на потолок.
– Муськин сын Яшка там живет, – отвернувшись к плите, как можно спокойней ответила Надежда.
– Да ты что, с ума сошла? Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? У тебя же немец на постое, а ты еврея прячешь. Совсем умом рехнулась, девка? А коль узнает да в гестапо доложит?
– Что мне его, на улицу выкинуть или самой в гестапо отвести? – резко повернулась к отцу Надежда, с вызовом смотря ему в глаза. – Муська мне как родная была. Даст бог, вернется, а нет – так хоть ребенка спасу. И пусть хоть что делают, а в беду его не дам!
– Ох, Надька, Надька, непутевая ты у нас, – тяжело вздохнул Андрей Васильевич, но, уловила Надя, мелькнуло в глазах отца уважение. Как-то по-другому смотрел он на нее. – А как примораживать начнет – что тогда делать станешь? На чердаке – это тебе не в хате натопленной сидеть.
– Не знаю, – честно ответила Надежда. – Может, возле трубы не так страшно будет?
– Завтра подъеду, посмотрю, а ты матери не говори: и так вся от страха трясется. На днях к ней Верка Косая забегала. Ейный мужик с полицаями форштадтскими путается. Напугала ее чуть не до смерти. Говорит, что, мол, как только немцы с евреями покончат, за староверов возьмутся. Я мать-то успокоил, как мог, а сам вот думаю, что нет дыма без огня. Бона что с евреями творят. На Видземской, на углу, четвертый участок полицейский – так там мужики подрабатывать приладились. Ямы здоровенные чуть ли не через день ходят в Погулянку копать. С вечера роют, а к утру к этим ямам евреев с Гривы пригоняют и расстреливают. Никого не щадят – ни стариков, ни детей малых. На всю округу слышно, как кричат. А эти, что могилы роют, ждут в сторонке, пока всех убьют, а потом закапывают и тряпки, с евреев снятые, между собой делят. Хоть бы постеснялись, так еще и по домам ходят, продают. Да я голый-босый буду ходить, но с убитых снятое ни в жисть не надену, и матери наказал ничего не покупать. Пока силы есть, я своими руками себе на хлеб и на одежку заработаю. Война – не война, а печь чадит – надо чинить, а то и новую дожить. На мой век работы хватит, и людям не стыдно в глаза смотреть. А эти хоть и помалкивают, да шила в мешке не утаишь. Все знают, чем занимаются и откуда деньги на водку…
Хлопнула дверь в сенях: мать от Дашки пришла. Сели за стол, отобедали. О новостях городских поговорили, о ценах на продукты, о знакомых общих, да и засобирались. Хоть и не голодают старики: огород кормит, в курятнике кур с дюжину, а в сарае поросята, – но Надежда все равно родителям с собой корзину собрала. Крупы отсыпала, консервов мясных положила, плитку шоколада немецкого, варенья банку. Пускай побалуются старики, цены-то нынче на все это заоблачные.
Отец заехал на следующий день с утра. Надежда была на седьмом небе от счастья, почувствовала: оттаял, не дуется больше. Как в старые добрые времена.
– Вот корзину тебе твою привез, спусти в погреб, – Андрей Васильевич поставил на стол корзину, в которой был десяток свежих яиц, банка варенья малинового да засоленного сала шматок, в марлю завернутый.
– Ну зачем, папа? У меня все есть.
– Я тебе привез то, чего у тебя нет, – отмахнулся отец и полез на чердак конопатить щели.
Яшка вертелся подле, все норовил чем-нибудь помочь, и в итоге Андрей Васильевич разрешил ему заделать пару щелей самому. Яшка сиял от гордости. К тому времени как закончили работу, Надежда как раз поспела с обедом, и все сели к столу.
– Ну авось не так дуть будет, а то сквозняк гуляет – недолго и простудиться. Вот только к лету надо щели открыть, иначе в жару там задохнуться можно…
– Давай, папа, до следующего лета доживем, а там уже и думать будем.
– И то верно, кто при нынешних-то временах наперед загадывать может. Но ты, Надюха, того… будь осторожной: с огнем играешь. И ты, малец, – Андрей Васильевич строго посмотрел на Яшку, – сиди там тихо, как мышь. Упаси бог, дознаются немцы или полицаи – горя не оберетесь. Слыхал, поди, чего они с вашими творят…
– Ты кушай, папа, кушай, не отвлекайся, – перебила на полуслове отца Надежда, выразительно посмотрев ему в глаза.
Андрей Васильевич смутился, понял, что ляпнул лишнего, и поспешил перевести разговор на другую тему.
– Не знаю, Надюха, как он там перезимует, – уже уходя, в сенях, покачал головой Андрей Васильевич. – Сверху жесть холод тянет, стеночка в одну доску, да и у трубы не сильно согреешься: к утру все одно остынет.
– А что я могу? – смахнула выступившую слезу Надежда. – У самой сердце кровью обливается за него. Ребенок ведь совсем еще. По сто раз за ночь просыпаюсь от страха, как он там. Если б не немец, спал бы себе спокойно в комнате или на печи, а так… Куда ж я его дену?
– Дааа, – покачал головой отец. – Выбор невелик, и кто знает, когда это все кончится. Говорят, русские драпают от немцев так, что аж пятки сверкают, а окромя русских кто немца погнать может? Ну да что говорить, как Богу угодно будет – так и будет.
После ухода отца Надежда серьезно призадумалась о неумолимо надвигающихся холодах. Яшка был к зиме не готов. Он так и ходил в тех застиранных, поношенных штанах и рубашке, в которых приехал из Силене. Ему нужна была теплая одежда, и Надя решила для начала связать ему теплые носки, а затем и свитер. Не мешало бы, конечно, иметь и пальто с шапкой, а к ним и ботинки. Мало ли чего – а не дай бог, из дома нужно будет бежать? Куда ж он раздетый?
Но буквально через неделю вопрос одежды решился самым неожиданным образом. А зашел Стаська, сосед по улице. Увидев за окном полицая, Надежда не на шутку перепугалась. Наказав Яшке бежать на чердак прятаться, сама пошла открывать дверь непрошеному гостю.
– Здорово, хозяйка, – зажав под мышкой бумажный сверток, переминался на крыльце с ноги на ногу Стаська.
– Здорово, сосед. Не признала тебя в форме.
– Богатым буду, – осклабился в улыбке Стаська. – Может, в дом пустишь? Разговор есть.
– Говори здесь. Офицер немецкий у меня живет, не любит, когда посторонние ходят. Чего надо?
– Слушай, я тут подумал: ты же портниха?
– Ну, – неопределенно ответила Надя.
– Я знаю, к тебе бабы ходят, клиентки. Так у меня платья разные есть, муфты, жакеты. Все почти новое. Может, возьмешь по дешевке, потом им продашь? И мне хорошо, и ты не в накладе.
– Нет, Стаська, мои ношеное не возьмут: они у меня новое заказывают. Пусть баба твоя на базар несет, там продаст, – Надежда уже хотела закрыть дверь, но вовремя спохватилась. – Слушай, а детская одежда у тебя есть? Мне для племянника в Резекне теплые вещи на зиму нужны. Лет на десять-одиннадцать.
– Если найду чего, занесу, – пообещал Стаська и обещание сдержал, вернулся через пару дней.
– Выбирай, – поставил он на крыльцо целый мешок с вещами. – Только там на некоторых шмотках звезды жидовские нашиты, так ты извиняй. Обычно перед продажей моя спарывает и стирает, если что несвежее, но про этот мешок она не знает. Решил заначку сделать. Другой раз хочется с мальцами посидеть, как человек, выпить, закусить, а у моей снега зимой не выпросишь, не то что денег, да еще на выпивку. Ну чего я тебе объясняю, сама понимаешь…
– Да чего ж не понять, – Надежда вытряхнула содержимое мешка прямо на крыльцо и отобрала из кучи в хорошем состоянии пальто, шарф, теплые твидовые брюки и пару добротных, еще не заношенных ботинок.
Вспомнила отца – он бы не купил, да махнула рукой: надо выживать.
Стаська торопился и, видно, очень выпить хотел, потому сторговались быстро.
– Тебе какими платить – марками ихними или рублями?
– Да один черт, и те и те в ходу, – нетерпеливо переминался с ноги на ногу, потирая руки, Стаська. – По курсу марка десять рублей.
– Держи, – Надежда протянула полицаю деньги.
– Спасибо, хозяйка, если чего надо, ты говори, – засунув купюры в карман и закинув мешок с оставшимися вещами на плечо, откланялся полицай и, воровато озираясь по сторонам, засеменил в противоположную от своего дома сторону.
Прежде чем примерить на Яшку обновки, Надежда решила спороть с пальто звезды. Она не хотела, чтобы ребенок знал, откуда вещи. Взяла ножницы, пошла к себе в комнату. Срезала первую, что была пришита на спине, а когда взялась за ту, что на груди, почувствовала, что под ней что-то есть. Отпоров край, Надежда извлекла из-под желтого шестиконечного лоскута записку. Дрожащими руками развернула плотно сложенный клочок бумаги и прочла: «Люди добрые. Нам нежить, но умоляю вас, Бога ради, спасите хотя бы ребенка. Ефим Голдберг, 17/3/1931 г.р.».
– Ох ты, боже мой, – закрыв рот ладонью, прошептала Надежда и перекрестилась. – Думали, наверное, если кто мальчонку найдет, то первым делом звезды оторвет… Боже мой, боже мой, боже мой… А ведь это мог быть Яшенька…
Сдавило грудь, налились слезами глаза, подкатил к горлу ком. Почувствовав, что вот-вот разрыдается, накинула на плечи платок и выскочила из дома во двор. Отперев сарайный замок, вошла внутрь, притворила за собой дверь и, опустившись на деревянную колоду, заревела в голос. Злость, обида, бессилие, страх – все, что накопилось в душе за последние месяцы, рвалось наружу. Раскачиваясь, как маятник, из стороны в сторону и сотрясаясь от рыданий, она заливала слезами разглаженные на ладони две тряпичные желтые звезды и клочок бумаги с мольбой о помощи. Немного успокоившись, опустилась на колени и стала разгребать руками податливую, вперемешку с опилками и щепками землю. Бережно положила в неглубокую ямку звезды с запиской и так же бережно засыпала. Прошептала молитву, перекрестилась и, постояв с минуту над свежей могилкой, вышла из сарая. Зайдя в дом, притянула к себе Яшку, обняла крепко – и так стояла долго-долго. Яшка не вырывался, стоял смирно, опустив руки по швам. Понимал: так надо.
Вещи пришлись впору, разве что пальто было немного великовато, но Надежда не придала этому большого значения. На улицу все одно не выйти, а по чердаку ходить – так какая разница. Но ни связанные Надеждой шерстяные носки, ни купленная у полицая Стаськи теплая одежда не спасли Яшку от простуды. На чердаке с каждым днем становилось все холодней, и хоть самые большие щели были законопачены, но сквозь малые все равно сквозило.
Как-то утром, после отъезда офицера на службу, Яшка, как обычно, спустился вниз, но был какой-то вялый и бледный. Пожаловался на головную боль и озноб, позавтракал без аппетита, а чуть позже все, что съел за завтраком, вырвал. Пощупав Яшкин лоб, Надя тут же уложила его в свою кровать, тепло укрыла и заставила выпить горячий чай с малиной. Яшка от чая с малиной хорошо пропотел и уснул. Надежда то и дело бегала в комнату, щупала Яшкин горячий лоб и молилась о том, чтобы это не было чем-то большим, чем простуда. К счастью, немец с утра предупредил, что дежурит сутки в госпитале, и Надежда благодарила Бога за эту возможность не отправлять Яшку на холодный чердак, а дать ему вылежать в теплой постели хотя бы эти одни подаренные судьбой сутки. К вечеру опять поднялась температура, и всю ночь Надя просидела у Яшкиной постели, поминутно прикладывая к горящей огнем голове смоченное в воде полотенце. Задремала ненадолго под утро, кое-как пристроившись в ногах. Весь следующий день температура не спадала, а вдобавок начался еще и сильный кашель. Ничего не помогало.
Надежда понимала, что Яшке нужно вылежать пару дней – и пойдет он на поправку, но бой часов каждые полчаса неумолимо оповещал о том, что нет у нее этих нескольких дней. Через пару часов приедет немец и Яшку придется опять отправлять на холодный чердак. А что делать с его надрывным кашлем? Ведь не заткнешь ему ночью рот. Надежда была в отчаянии. Оставалось уповать только на Бога, и она упала на колени перед иконой, умоляя спасти и сохранить хотя бы ребенка. Она не думала о себе – только о нем. Как та еврейская мама в той страшной записке, спрятанной под желтой шестиконечной звездой.
Мартин закончил писать письмо отцу и, еще раз перечитав, остался доволен. Конечно, хотелось написать старику подробнее обо всем, что здесь происходит, но лишнее писать он остерегался. Ни для кого не было секретом то, что ребята из гестапо проявляют порой излишнее любопытство к переписке своих доблестных солдат и офицеров, пытаясь выяснить настроения в армии и за ее пределами. Одно неосторожное слово могло поставить крест на карьере или закончиться отправкой на фронт. Помимо семейных новостей отец писал о том, что встречался со своими старыми друзьями-вояками, многие из которых еще были при деле. Написал, что все они спрашивали о нем и передавали привет. На самом деле это означало не что иное, как попытки отца через своих друзей в генеральном штабе перетащить его назад, в Германию. В другое время Мартин бы воспротивился этой заботе, но сейчас он был бы не против вернуться на Родину. Нет, его не тяготила служба в армии, ежедневное вытаскивание с того света раненых, многочасовые операции, ампутированные конечности, кровь, смерть и прочие атрибуты военного госпиталя в условиях идущей войны. Он выполнял свой долг, спасал жизни и мог бы гордиться этим, если бы не вдруг открывшаяся оберштабсартцу Мартину Кеплеру страшная изнанка войны, повергшая его в шок и растерянность.
Пару дней назад по дороге в госпиталь Мартин обратил внимание на взволнованное состояние своего обычно спокойного и уравновешенного водителя Курта. На расспросы о том, что произошло, Курт сначала отмалчивался, но под давлением шефа сломался и поведал о том, чему стал свидетелем накануне. Обычно, пока Мартин был занят в госпитале, Курт бездельничал целыми днями в гараже с такими же, как и он сам, водителями местного начальства, от которых знал все гарнизонные новости и сплетни, либо заигрывал с вольнонаемными девушками из находящегося по соседству «хозяйства 322» оберцалмейстера Люкенвальда. И вот в один из таких дней хороший знакомый Курта, личный шофер командира СД Гюнтера Табберта Отто Лемке поделился с приятелем секретом, где и когда будет происходить очередная акция, пригласив лично понаблюдать, как на деле осуществляется решение еврейского вопроса. Курт чисто из любопытства приглашение принял, и друзья-приятели отправились в Погулянский лес воочию смотреть массовую акцию.
Срывающимся от волнения голосом Курт подробно рассказал Мартину, как под конвоем привели около трехсот человек к заранее вырытым рвам, как всех раздели и по десять человек гнали к ямам, ставили на колени и убивали выстрелом в затылок. Не щадили ни женщин, ни детей. Стреляли местные из вспомогательной полиции, но присутствовали и немецкие офицеры.
Мартин отказывался верить своим ушам. В его понятии это был несмываемый позор, клеймо, перечеркивающее все заслуги доблестной немецкой армии, завоевавшей пол-Европы и вступившей в смертельную схватку с главным своим врагом – большевизмом. Нет, для него не была секретом политика Рейха в отношении евреев, записавшая их в разряд неполноценной расы, унтерменш, и лишившая их всех гражданских прав. Но поголовное истребление ни в чем не повинных людей оказалось для оберштабсартца Мартина Кеплера не укладывающимся в мозгу, чудовищным открытием. Как врач он прекрасно понимал всю несостоятельность этой шитой белыми нитками теории превосходства арийской расы над другими народами, но как человек военный помалкивал, да и постоянная занятость не оставляла времени для подобного рода размышлений. Сейчас ему было стыдно – и стыдно не только за армию, мундир которой он носил, но и за всю Германию, сыном которой являлся.
Взглянув на часы, Мартин запечатал письмо и опустил его в карман висящего на спинке стула кителя. Широко зевнул, потянулся и, стараясь не шуметь, через кухню прошел в сени, где стояло ведро для нужды. Летом пользовались уборной на улице, а с приходом осени ходили на ведро, которое Надежда наутро выносила. В сенях было холодно. Мартин передернул плечами и только стал расстегивать пуговицы на галифе, как отчетливо услышал доносящийся откуда-то сверху кашель. Он не мог ошибиться, кашляли именно наверху. Через несколько секунд звук повторился, и теперь Мартин не сомневался, что на чердаке кто-то есть. Вернувшись в комнату, он вытащил из кобуры пистолет. Холодная рифленая рукоятка люгера удобно легла в ладонь. Сняв пистолет с предохранителя, Мартин дослал патрон в патронник и сунул пистолет в карман галифе. Взял со стола фонарь и решительно вышел из комнаты.
Луч фонаря медленно обшарил пустой чердак. Решив, что ослышался, Мартин хотел уже было спускаться вниз, как из-за печной трубы раздался хриплый, надрывный кашель. Сжав в кармане рукоятку люгера, офицер осторожно приблизился к трубе и высветил лежащего на груде тряпья, задыхающегося от кашля мальчишку лет восьми. Ребенок был бледен и никак не реагировал ни на свет фонаря, направленный ему в лицо, ни на задаваемые ему Мартином вопросы. Изредка он открывал глаза, смотрел невидящим взглядом на склонившегося над ним офицера и тут же их закрывал, что-то бормоча то ли во сне, то ли в бреду. Потрогав горячую голову ребенка, Мартин подхватил на руки почти безжизненное тело и, осторожно ступая по чердачному настилу, понес ребенка к лазу, ведущему вниз, в тепло и уют дома. В его голове один на один наслаивались вопросы, связанные с этим больным мальчишкой, – кто он, откуда и почему прячется на чердаке, – но долг врача отодвигал все вопросы на потом.
Надя стояла посреди кухни босиком, в одной ночной рубахе, зажав в руке большой кухонный нож. Ее горящие глаза на бледном, как полотно, лице были полны животного ужаса, и в то же время в них читалась отчаянная решимость загнанной в угол волчицы биться насмерть с любым, кто осмелится причинить зло ее детенышу. Офицер мельком взглянул на обезумевшую от страха женщину, на зажатый в руке нож и, пройдя мимо, положил ребенка на стол. Нащупал слабый пульс, прислушался, считая про себя, затем метнулся к себе в комнату и вернулся уже с накинутым на шею стетоскопом. Задрал на Яшке старую вязаную Надеждину кофту, рубаху и, приложив к груди мембрану, замер, вслушиваясь в стук сердца, шумы, хрипы и клокотание в легких.
– Его нужно отвезти в госпиталь, – осмотрев тело ребенка, констатировал Мартин. – Я подозреваю двухстороннее воспаление легких, но точней я смогу сказать только после того, как сделаю некоторые анализы.
– Его нельзя в госпиталь, – каким-то чужим, обреченным голосом произнесла Надежда. Она все еще стояла босиком посреди кухни, с зажатым в руке ножом. – Он…
– Что значит нельзя? – немец обернулся на голос, посмотрел на нее долгим вопросительным взглядом и вдруг все понял. Расстегнул на Яшке штаны, посмотрел… и опустил голову. – Так вот почему он жил на чердаке? В любом случае ему нельзя там находиться: он там умрет. Найдите, Надья, ему место в доме, – холодно бросил Мартин и, подойдя к рукомойнику, стал тщательно мыть руки.