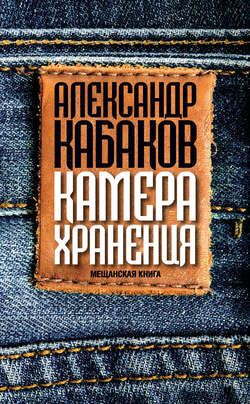Читать книгу Камера хранения. Мещанская книга - Александр Кабаков - Страница 13
Часть первая
В закоулках большого стиля
Чужая жизнь
ОглавлениеДревняя история наших вещей кончилась тогда, когда они из обычных предметов скудного быта, которыми пользовались по необходимости и в отсутствие других, современных и просто новых, превратились в декорации, украшения, предметы эстетического выбора, элементы стиля. Еще в начале шестидесятых
журнальный столик в форме фасолины на раскоряченных тонких ножках (на который со стены насмешливо смотрел Хемингуэй в туристском свитере),
нейлоновый дождевик «болонья» (в конвертике, если настоящий итальянский)
и магнитофон «Яуза» (маленькие катушки пленки, электрический проигрыватель в том же корпусе, звук, казавшийся вполне приличным) – вот составляющие материального счастья.
А уже к концу десятилетия болонью донашивали пожилые провинциальные щеголи, журнальные столики типа «калужский модерн» украшали жилища только самых нищих и духовно озабоченных интеллигентов, а магнитофоны Grundig и Phillips из последних сил всеми неправдами осиливали даже младшие научные.
Оставим пока в стороне то, что вытеснило из мечтаний болонью, а потом и вообще всю одежду – джинсам еще будет выделено подобающее место. Сейчас оглядимся в четырех стенах.
В конце шестидесятых и еще более в начале семидесятых в культурные квартиры хлынуло то, что гордо называлось «антиквариатом», хотя правильное и честное название этому было бы просто «старье».
Центром столичного интеллигентского жилья стал примитивно резной буфет, который уже был упомянут выше, но заслуживает более подробного изучения.
Из всех мебельных комиссионок Москвы – а их было тогда множество – выделялась скупка на Преображенском рынке. Это был целый ряд сильно запущенных сараев, набитых сломанной дешевой мебелью, в основном дореволюционного, так называемого базарного изготовления, колченогой, с косо висящими дверцами, рваной обивкой и дырявыми сиденьями. Полутемное пространство уходило вглубь сарая, по которому можно было бродить в поисках той рухляди, что рисовалась в мечтах, часами – если был готов выносить специфический едкий запах старья. А если ничего подходящего не находилось – то вот он, рядом, другой такой же сарай, и еще один… Здесь, на Преображенке, и находили, после более или менее долгих поисков, буфет. Старая кухонная деревяшка, которой предстояло стать украшением главной (если их было больше одной) комнаты кооперативной (как правило) квартиры.
Фундамент, нижняя толстая доска, украшенная фигурными плинтусами, был, естественно, самой тяжелой частью сооружения. В лифт он не влезал, и крепкие туристы-байдарочники, напрягая все силы, оставшиеся от пения у костра, перли его наверх пешком, время от времени притирая кого-нибудь к стене. Потом поднимали разобранный корпус – болтающиеся латунные петли, деревянные шпеньки, обнаружившиеся, когда панели отделяли друг от друга, полки в чайных и винных кругах. В зависимости от дизайна корпуса буфет приобретал название: «со стеклышками» – если в верхних дверцах были цветные стекла, как бы витражи; «с плитой» – если выдвижная из-под верхней части буфета полка была из мрамора; «с верхушкой» – если буфет имел венец, верхний резной карниз… Венцом, как правило, приходилось пожертвовать при сборке буфета на месте – не помещался при высоте кооперативного потолка в 2 метра 70 сантиметров максимум.
Однажды, как сейчас помню, мы вдвоем с приятелем, неудачливым музыкантом, по дружбе вперли такой буфет – пожалуй, больший среднего экземпляр – в высокий бельэтаж старого дома в центре, где тогда жил наш общий друг, выдающийся джазмен К. С фундаментом чуть не надорвались. А поскольку К. был (и остается) непьющим, то окончание буфетно-такелажных работ мы, добровольные такелажники, отметили тоже вдвоем. Была шашлычная с пивом в подвале дома на улице Богдана Хмельницкого (Маросейка), а в соседнем доме я в то время жил… Мы обсудили буфет и пришли к выводу, что если К. когда-нибудь разбогатеет (во что мы не верили, потому что какое ж на джазе богатство, – и ошиблись), то буфет он выкинет к черту (и опять ошиблись). Многое выбросили те, кого все еще никак не перестанут называть шестидесятниками, но резные буфеты прочно стоят на их кухнях, а то и в гостиных. Перестройку они пережили, и кто знает, что еще переживут.
…Примерно в те же времена, когда торжествовал буфет, не многим менее популярным стал еще один полузабытый элемент интерьера – подсвечник. Объяснение этой тотальной моде на предметы, абсолютно не нужные в стране полной – по крайней мере, городской – электрификации, – найти можно, и я еще к этому вернусь, пока же вспомним некоторые факты из жизни подсвечников в СССР.
Добывались подсвечники в комиссионных магазинах, комиссионках разного уровня. В дорогих – из которых главная была на Арбате, торговала не только всяким художественно ничтожным старьем, но и настоящим искусством – можно было купить шикарный, прекрасно сохранившийся шандал, и даже не просто темной бронзы, а посеребренный, а при хороших отношениях с торговыми работниками – и серебряный, если больше некуда было девать советские деньги, которые действительно было некуда девать. В комиссионках попроще можно было набежать на вроде бы пристойный, но кое-где подпаянный по излому, а то и без в незапамятные времена отломанной чашечки для свечи… Но и чашечку при удаче можно было купить в другой заход здесь же.
Однако настоящее месторождение подсвечников и другой мелкой бронзы находилось, как было известно заинтересованным жителям обеих столиц и еще многим ценителям, в Ленинграде, в комиссионках и скупках Апраксина двора. Ангел, отодранный неизвестно от чего. Ножка керосиновой лампы из чьей-то гостиной. Наяда с целой, и на том спасибо, грудью, но одной отломанной ногой. Рыцарь без головы. И вздыбленный, поскольку передние ноги утратил, конь… Я знавал одного парня, который из Питера всегда возвращался с неподъемной сумкой. После ремонта – малый был рукодельный – он сдавал питерскую бронзу в московские магазины, и бизнес этот его почти кормил.
…Да, чуть не забыл: я же обещал попытаться дать объяснения этой, распространившейся на переломе шестидесятых—семидесятых среди образованных горожан моде на старые вещи. Что ж, держу обещание. Ниже следует текст, написанный некогда по другому поводу, но, мне кажется, очень здесь уместный. Содержащиеся в нем повторы кое-чего, что здесь уже было сказано, думаю, извинительны ввиду обширности темы.
Итак.
«Дом на набережной» великого Трифонова, повесть, точно и беспощадно отразившая закат и разложение советской интеллигенции, открывается вот каким эпизодом: герой по фамилии Глебов приезжает в комиссионный мебельный.
«Вообще-то он приехал туда за столом. Сказали, что можно взять стол, пока еще неизвестно где, сие есть тайна, но указали концы – антикварный, с медальонами, как раз к стульям красного дерева, купленным Мариной год назад для новой квартиры. Сказали, что в мебельном возле Коптевского рынка работает некий Ефим, который знает, где стол. Глебов подъехал после обеда, в неистовый солнцепек, поставил машину в тень и направился к магазину».
О чем это? Тем, кто не жил тогда, в начале семидесятых…
Кто не помнит адскую жару семьдесят второго, будто спалившую все основы существования…
Кто не провожал в Шереметьево друзей навсегда…
Кто не ходил на закрытые просмотры, не слышал о рассыпанных наборах и не читал рассыпающиеся в десятых руках толстые журналы
– словом, тем, кто не знает, как умирал советский образ жизни, – тем непонятно, почему Глебову, высокого официального ранга гуманитарию, понадобился именно такой стол.
А мне и таким, как я, доживающим век пасынкам совка, все ясно.
Нормальной мебели в магазинах не продавали вообще. По записи или по блату с переплатой можно было купить белую румынскую спальню с плохо наклеенными пластмассовыми завитушками вместо резьбы или, бери выше, югославскую гостиную «из настоящего дерева!», дурно скопированную с бидермайеровских гарнитуров низшего разбора. Стоили эти радости примерно столько же, сколько кооперативная (нужны отдельные разъяснения, места нет) квартира, для которой они покупались.
В моей среде такой интерьер назывался «мечта жлоба». Лауреата из малокультурных. Работника торговли из еще не посаженных. Выездного «журналиста в погонах». И руководящего товарища вообще…
А приличные люди покупали мебель старую, в комиссионных или антикварных магазинах. Кто были приличные люди? Диапазон огромный. От народного артиста СССР, чью обстановку иногда можно было увидеть по телевизору: павловские неудобные диваны красного дерева в полосатом шелке, резные колонки под цветы и статуэтки, тяжелоногие круглые столы, а по стенам – темные холсты в багетах… И вплоть до меня, почти бездомного, почти безработного, с почти антисоветской повестушкой в столе и без всякой надежды опубликовать ее в вожделенной «Юности».
Был необходимый и в нашем кругу набор.
Столетний резной кухонный буфет базарного качества покупался в мебельной скупке рублей за восемьдесят. Погрузка-разгрузка силами приятелей, доставка леваком – еще за десятку. Рваные плетеные венские стулья с помойки, обнаруженной где-нибудь в районе Тишинки – там тогда сплошь сносили деревянные двухэтажки. Вообще тот район был полон сокровищ: выброшенные наследниками бабкины иконы, бронзовые дверные ручки… Безумцы стояли вокруг разведенных строителями костров и время от времени бросались за этими обломками в пламя, как герои, спасающие колхозных лошадей.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу