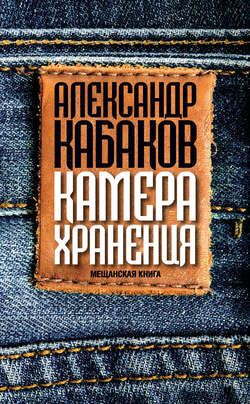Читать книгу Камера хранения. Мещанская книга - Александр Кабаков - Страница 6
Часть первая
В закоулках большого стиля
Пружина
ОглавлениеБытовая техника воспроизведения – а позже и записи – звука была и остается основной сферой, в которой на моей памяти обычный человек теснее всего взаимодействовал и взаимодействует с современными достижениями научной и инженерной мысли. От патефона и виниловых пластинок до ушных затычек, без которых сегодня нельзя представить пассажира метро и просто живого человека, – мы проделали огромный путь к круглосуточному потреблению более или менее музыкальных звуков. Это, по-моему, шаг за шагом превращает человека разумного в человека звукозависимого. Культурная публика музицировала пару раз в неделю с помощью домашнего фортепиано и, в недавние времена, одомашненной гитары – теперь все население наполнено так называемой музыкой круглосуточно и воспринимает ее не через уютно надышанный воздух гостиной, а непосредственно через барабанные перепонки…
Итак, патефон. Кое-кто, конечно, помнит, но в общих чертах. Между тем это был важнейший предмет, вокруг которого шла частная жизнь, возникали и развивались чувства прекрасного и вообще чувства, совершенствовались художественные переживания и зрели переживания сугубо лирические.
Я помню не слишком часто встречавшиеся трофейные и существовавшие в каждой приличной семье отечественные. Как ни странно, между изделием вспомогательного цеха советского военного завода, со звездами, серпами и молотами, и продуктом фирмы His master’s voice, на эмблеме которой собачка заслушивалась голосом хозяина, идущим из тюльпанообразной трубы, большой разницы не было. Этим подтверждается мое наблюдение: социализм способен производить полноценные вещи, но только тогда, когда в отделе технического контроля сидит товарищ Страх. До поры до времени советская техника не уступала капиталистической. У нас были даже вполне приличные автомобили! Нельзя не согласиться, что Сталин был эффективным менеджером. Но единственным способом советского эффективного менеджмента была угроза убийством…
Однако вернемся к патефону.
Это был квадратный ящик, обтянутый липким дерматином. Многие вставляют «н» перед «т», производя слово от известной субстанции, а не от «дермы», то есть «кожи», – это объяснимая ошибка. Из ящика выдвигалась пружинящая ручка для переноски. Закрывался ящик на никелированную застежку портфельного типа, а в открытом состоянии крышка удерживалась складным упором. В крышке размещалась выдвижная труба-резонатор, из которой, собственно, исходил звук. На противоположном резонатору конце трубы имелся так называемый звукосниматель – тонкая мембрана, к которой жестко крепилась короткая стальная иголка…
Тут я отвлекусь. Патефонные иголки были дефицитом – тогда еще не существовало в широком хождении этого социалистического слова, иголки просто «доставали», то есть во время отпуска закупали в доступных количествах на толкучках, вещевых рынках прибалтийских или черноморских курортных городков. Продавали иголки инвалиды… А хранились они в самой привлекательной для меня части патефона – выдвижном ящичке, расположенном с угла патефонного корпуса. Ящичек этот выдвигался с поворотом, и обнаруживались стальные синеватые толстенькие короткие иглы. По мере износа от трения о бороздки пластинок – про пластинки позже – иглы в звукоснимателе заменялись. Производить эту операцию мне не разрешалось, ее выполняли отцовские друзья, инженеры вышеупомянутого первого советского ракетного полигона…
Кроме ящичка с иголками в корпусе патефона располагался пружинный моторчик, который надо было заводить вращением специальной съемной рукоятки, напоминающей уменьшенную ручку, которой тогда заводили постоянно глохнувшие грузовые – иногда и легковые – автомобили. Шоферы дали этой рукоятке остроумную, как все народные прозвища, кличку «кривой стартер»… Заведенный пружинный моторчик вращал тяжелый – для сбалансированности – диск, на который клали пластинку, хранительницу музыки.
Вот интересная вещь: вплоть до шестидесятых годов прошлого века большая часть предназначенной для обычных людей техники получала энергию от завода сжатых пружин. Об игрушках я уже сказал, а вот, пожалуйста, патефон, а еще была заводная бритва, не то «Юность», не то «Дружба», а еще в парикмахерской жужжали машинки для стрижки, в недрах которых тоже были пружины, а еще был фонарик-«жужжалка», который действовал от маленькой динамо-машины, крутили которую на равных сжимающаяся рука владельца и возвратная пружина, а еще… Пружина исполняла роль, которую спустя пару десятилетий безвозвратно перехватили батарейки. Батарейки, требующие замены, наиболее ярко воплощающие идею одноразовости, в то время как пружина олицетворяла возобновляемость, многократность использования. Батарейки подчиняются времени, пружина побеждала время…
Но я сломал пружину.
У нас были гости. Тогда часто ходили в гости, да и куда было пойти офицеру с женой в глухом приволжском селе, рядом с которым ударными тогдашними темпами строился, но еще не был построен военный городок? Даже танцы в Доме офицеров еще не начались ввиду недостроенности этого самого Дома. Да и не было принято ходить на танцы женатым и замужним – это развлечение позволяли себе холостые лейтенанты и командированные из ракетных «почтовых ящиков» молодые инженеры. И потому женатые, но еще бездетные капитаны и даже майоры едва ли не каждую субботу вечером, после окончания рабочей недели на пусковых площадках, приходили в наш сугубо семейный дом с молодыми, приобретенными в последних отпусках женами. Многие проводили отпуска в больших городах перед подъездами педагогических и медицинских институтов; и метод срабатывал, находилась готовая к взаимности выпускница…
Мать и бабушка с утра готовили: холодец из свиных ног с неприятно трогательными копытцами; винегрет в небольшом тазу; чистили селедку-залом, полученную в последнем пайке, и варили розоватую картошку; затевали пирог большим пухлым бубликом в печи-форме под названием «Чудо»; делали «шоколадную колбасу» из порошка какао, сахара и мелко ломанного печенья. К чаю кто-нибудь приносил коробку шоколадных конфет-ассорти с оленем, а кто-нибудь – просто «Мишку на севере» россыпью, в кульке из толстой серой бумаги. Открывали бутылки вина – кисловатого «Ркацители» и почти приторного «Шато Икем», шли в дело и ликер «Кофейный», и ядовито-зеленый «Шартрез». Мужчины под любую еду разливали «белую головку» – запечатанную белым сургучом водку по 21 рубль 20 копеек бутылка; дешевой «красной головкой» по 19 рублей 20 копеек товарищи офицеры пренебрегали, а о спирте и речи не могло быть – им ракетчики поддерживали силы в течение пусковой недели на площадках.
Выпивали крепко, потом кто-нибудь один оставался за столом доедать холодец, остальные шли танцевать.
Пластинки Апрелевского завода, эмблема которого, испускающий во все стороны лучи маяк, имелась на каждой пластинке, на красном или голубом круге в центре музыкального носителя, менял на патефоне я, это была неоспариваемая привилегия. Пластинки были толстые, из черного материала, который, как я узнал позже, назывался «шеллак», о виниле еще не было и речи. Репертуар был небольшой. Любимый как аккомпанемент для танцев «Фокстрот. Исп. Л. Утесов» – популярный «Барон фон дер Шпик». «…попал на русский штык, остался от барона только пшик!» Это все еще было совсем недавно, три неполных года назад, и эти капитаны еще успели встретиться с баронами, которые на деле были не таким уж пшиком, а теперь стали просто аккомпанементом для домашних танцев. И томное танго без названий, просто «Танго. Исп. инструментальный ансамбль». И еще одно танго, тоже без названия, но все знали, что оно называется «Брызги шампанского», и кто-то даже подпевал инструментальному ансамблю «…новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь окружен…», но тут же обрывал пение. И бешеная «Рио-рита. Исп. оркестр Госрадиокомитета». И невесть как оказавшийся среди обычной продукции Апрелевского завода в мятых бумажных конвертах Вадим Козин безо всякого конверта и даже без цветного круга с названиями в центре, с его непостижимо прямыми словами «…давай пожмем друг другу руки – и в дальний путь, на долгие года!». Я не мог тогда, конечно, понять, о чем тут речь, но и меня преступной страстью пробирало до мурашек.
И вот я менял пластинки, а взрослые танцевали. Бальные наряды офицерской компании были прихотливы. На женщинах сверкали крупными цветами платья из крепдешина и креп-жоржета, с юбками модного фасона полудлинное солнце-клеш (много лет спустя я узнал, что это был диоровский New look), собственноручно сшитые – по картинке из московского «Журнала мод» с выкройками – на ручных наследственных швейных машинках Zinger или недавно появившихся подольских. На дамских ногах были босоножки из лакированных ремешков на танкетках из пробки. За такими босоножками ездили из сочинского военного санатория к сухумскому подпольному сапожнику… Кавалеры, измученные жарой и шерстяными кителями со стоячим воротником, выступали в синих брюках-галифе с высоким корсажем из выстроченного сатина и в казенных нижних рубахах фасона «гейша» с подвернутыми рукавами. При этом танцевали они босиком, поскольку пыльные сапоги оставили в сенях, а под сапогами носили портянки, в которых не потанцуешь – вот и снова портянки, в третий раз опишу подробно… По ходу танцев обязательно кто-нибудь наступал на волочившиеся по полу тесемки, которыми снизу были оснащены галифе.
Между тем завод патефона кончался, вращение диска замедлилось, музыка стала похрипывать, и танцы прервались на время, за которое я должен был накрутить пружину. Общество вернулось к столу, и тут я заметил то, что как-то упустил из виду прежде.
Отца не было среди выпивающих и закусывающих, да и среди танцевавших его давно не было. Можно было бы предположить, что он курит на крыльце, хотя все уже давно курили в комнате, низенькие оконные рамы избы, которую мы снимали у местных, были выставлены на время жары… Тем не менее отцу негде было быть, кроме как на крыльце.
А мать стояла посреди комнаты, и с нею стоял один из отцовских приятелей, самый молодой среди этих капитанов, москвич, выпускник артиллерийской академии, с прекрасной выправкой – в отличие от остальных в компании, окончивших до войны в разных городах гражданские технические вузы. Мать была одета по последней журнальной моде – в крепдешиновый комбинезон с чрезвычайно широкими штанинами. Голубой крепдешин был в крупную чайную розу.
Они стояли, как бы пережидая паузу, готовые продолжать танец и потому слегка обнявшиеся.
А отец, наверное, курил на крыльце.
А я накручивал пружину патефона.
И я крутил ее, пока не раздался оглушительный звон и по корпусу патефона не прошла дрожь.
И тогда я торжественно и злорадно объявил: «Пружина лопнула!»
И танцы кончились.
Москвич и мать разошлись, сели в разных концах стола.
Отец вернулся, накурившись.
Все выпивали и закусывали, мне наливали компот, а я налегал на шоколадную колбасу.
Ближе к вечеру все спокойно разошлись.
Больше мне тот день ничем не запомнился.
Не помню я и дальнейшую судьбу нашего патефона. Кажется, его не удалось починить. Впредь кто-нибудь из гостей приносил свой, и мне не доверяли эту технику. А потом у нас появился электропроигрыватель «Концертный», который мог проигрывать долгоиграющие пластинки на 33 оборота. А потом мне, помешавшемуся на джазе, купили рижского изготовления магнитофон «Спалис». А потом – «Яузу», в которой проигрыватель и магнитофон были совмещены. А потом уже всё покупал я сам.
Двухкассетник Sony с автоматическим проигрывателем CD давно заброшен, джаз я слушаю в ушных затычках, соединенных с плеером-флэшкой.
Да и слушаю мало.
…Москвича перевели, кажется, в Камышин, преподавать в открывшемся там училище, готовившем кадры для ракетной артиллерии.
Отец все то лето курил на крыльце, а потом мы переехали в один из первых многоквартирных домов городка, и я уже не помню, где он курил – вероятно, на лестнице, с соседом, майором, начальником полигонного метеоцентра. А вскоре отец и сам получил майора.
Черт его знает, может, мне все это показалось – мать посреди большой комнаты с низкими деревенскими потолками и все остальное… Вообще-то, когда приходили гости, мать всегда танцевала только с отцом, но чаще не танцевала вообще.
А патефонную пружину я перекрутил специально, это точно.