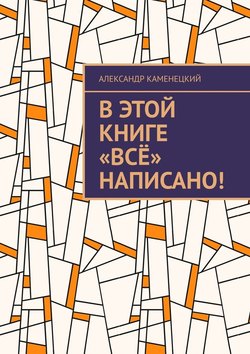Читать книгу В этой книге «Всё» написано! - Александр Каменецкий - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Неопровержимое присутствие точки состоит в ее неопровержимой воспринимаемости
ОглавлениеЗададися вопросом: где находится точка, если любое «Всё» заключено в ней одной? Да вот же – Вовочка рисует ее карандашом в тетрадке на уроке геометри. Или, если угодно, Евклид в глубокой задумчивости тычет тростью в песок. Подходит Пифагор: «О чем призадумались, коллега?» – «Да вот точку нарисовал». – «Где?» – «Вот здесь». Но кто знает, о чем на самом деле призадумался наш Евклид? Ну, например, о том, откуда возьмется точка, если ее никто не нарисует. Или о том, что «естьность» любого феномена напрямую свзязана (а еще точнее – абсолютно обусловлена) его воспринимаемостью. «Каждй точке – по Евклиду!» – приблизительно так могла бы звучать самая первая аксиома науки геометрии… как, впрочем, и вообще любой науки без исключения.
О запутанных взаимоотношениях субъекта и объекта не рассуждал за тысячи лет человеческой истории, пожалуй, только тот, кто имел в жизни занятие поважнее или поинтереснее. Порассуждаем же и мы – но, по недавно установившейся традиции, в компании уже заслужившего наше доверие Здравого Смысла. Но первый же вопрос дражайшего коллеги ставит нас в тупик: «Откуда можно увидеть точку, если кроме нее вообще ничего нет?»
Хитер, бес! Он ведь поди нарочно не спрашивает «кто?» – сразу берет быка за рога. Ведь насчет «кто?» ответов за века накопилось предостаточно. На этого субъекта имеется пухлое досье с именами, атрибутами и всем прочим разным по списку. Если Вы, дорогой читатель, еще не в курсе, в ближайшей церкви Вам обязательно разъяснят. Но – ради Бога! – не обращайтесь к служителям культа с вопросом «где?». Вы непременно или обидите их, или рассердите, или того пуще накличете на свою бедную голову такую лавину несуразиц из актуального катехизиса, что очень потом пожалеете. Наши несуразицы необязательно лучше – но мы все же попробуем.
Заявим сразу и без обиняков: все, что не воспринимается, не обладает «естьностью», точка. Будь то твердый предмет, твердый предмет, разбившийся вдребезги (украденный, потерянный, проданный, не купленный, хотя было дешево, купленный соседом и т. д.), сердечная печаль по поводу случившегося, подходящее случаю слово или мысль – все это однозначно есть. Есть как вещь, как мысль о вещи, как слово о вещи или на худой конец как гарантийная квитанция, если вещь претерпела нехорошую метаморфозу. Нет и принципиально, ни при каких обстоятельствах не может быть чего-либо, что не обладает «естьностью» – т. е. не бывает того, чего «нет». Если кто-то нечто подобное видел, просим срочно сообщить куда следует, Вас там обязательно вылечат. Но, к сожалению, далеко не все экспериментаторы прибегли своевременно к экстренной медицинской помощи.
Отчего впала в кризис и ступор западная культура? Еще на заре 20-го века начались первые эксперименты с деструкцией (десакрализацией, а точнее – дегуманизацией) формы. Что будет, если обычный портрет разложить на геометрические плоскости? Будет кубизм – интересно. Что будет, если тот же самый портрет увидеть как интенсивную игру красок? Будет не менее интересно: импрессионизм. А что получится, если игру цветов и форм вообще отстранить от «формального» изображения? Получится офигительно круто: авангард. Сальери у Пушкина об этом выразился так: «Я музыку разъял, как труп». Продолжая свои анатомические изыскания, художники (и музыканты, и мастера слова) преследовали, конечно, цель весьма и весьма благородную: они хотели обнаружить сокровенную «сущность» искусства, его пресловутую «естьность». И таки да обнаружили – обнаружив притом самих себя у девственно белого холста и немого фортепиано. Чистая «естьность» сыграла с творцами злую шутку: она явила избыточность любой формы, а, стало быть, и самого искусства, и культуры вообще.
Ошарашенные и огорченные, люди культуры пытались выразить свое огорчение в предельном «избиении» формы, в откровенном издевательстве над ней, поскольку форма их откровенно предала, выставив дураками и дармоедами. То же самое коснулось и заложенных в культуре смыслов – их попросту уже нельзя было воспринимать всерьез. Кульминацией этого культурного процесса стал постмодерн, объявивший любую форму и любой смысл «игровыми», ненастоящими – тем, что сейчас принято называть «фэйк».
Сквозь «игровую реальность» все более проступала пугающая, засасывающая пустота, которая небезосновательно виделась подлинной «подложкой», основой всего. Пустота растворяла любые смыслы получше серной кислоты – этот факт, однако, умные головы западных демократий ухитрились обратить себе на пользу, заявив: здесь, в размывании смыслов, человек и может обрести наконец те заветные «свободу, равенство и братство», которые со времен Французской Революции все как-то уж слишком кроваво давались населению. Свобода от смыслов, равенство перед всеразмывающей пустотой, братство всех в легкомысленном царствии всеобщей бессмыслицы – именно это вдруг показалось «волшебной пилюлей» против войн, геноцидов, гулагов и прочих прелестей, которыми был, к сожалению, так богат 20-й век. Впрочем, наслаждаться всеми этими благами следовало исключительно на сытый желудок: человек недоедающий склонен задавать нелепые вопросы и искать с голодухи всяческих смыслов. Потому в итоге было принято поистине соломоново решение: смыслы надлежало более не растворять в пустоте, а потреблять – то есть попросту жрать. Последствия всего этого хорошо известны.
Увы, господа дальновидцы проглядели одну немаловажную деталь: при анатомическом вскрытии тела душу обнаружить, увы, нельзя. Мертвое тело однозначно лишено того, чем обладает тело живое, – как «это» ни назови. Любая форма сама по себе мертва – сие было проверено и многократно доказано экспериментально. Живой форму делает смысл – то, что есть не-форма и всегда победно ускользает от скальпеля патологоанатома. Именно этим, и одним лишь этим интересуется наука метафизика – а потому, перефразируя Христа, можно смело сказать: «Предоставьте мертвым анатомировать своих мертвецов».
Но прежде, чем понапрасну тревожить медперсонал, проведем простейший эксперимент. Вот на столе лежит смартфон, а я его вижу, то бишь подтверждаю своим «видением» его неопровержимую «естьность». Констатирую факт: «Я вижу смартфон». А теперь: внимание, фокус-покус! Прежде чем выдать сие умозаключение, мне необходимо хотя бы мельком, хотя бы краешком глазка взглянуть на этого «я» и зафиксировать его «естьность». Если фокус не удается, надобно непременно звонить доктору (жалуйтесь на деперсонализацию), но обычно он все же удается на твердое «пять с плюсом» – притом сам владелец смартфона и не замечает, что за трюк он только что провернул. Есть, впрочем, и такие, которые долго и упорно учатся замечать, рискуя как минимум своим психическим здоровьем.
Здесь мы сделаем краткое отступление и совершим один небольшой лингвистический трип. Примерно 2000 лет назад в Индии был сформулирован один из величайших мемов в духовной истории человечества: «Тат твам аси». На западе эта сакраментальная формула была ловко переведена как «Я есть То» – и понеслось. Чем бы ни было загадочное «То», ему по определению полагалось быть на порядок лучше, нежели убогому «это», торчащему кажен божий день в зеркале. Из древнего мема выросла целая индустрия, предлагающая своей обширной клиентуре уже описанный нами весьма нехитрый прием: ежели я могу увидеть и осознать свое «я», стало быть – я «им» по определению не являюсь! Духовные наперсточники всех мастей с удовольствием предлагают публике всевозможнейшие варианты того, кем же «мне» теперь позволено быть, – то ли Божественным Сознанием, то ли Вселенским Светом, то ли обоими сразу. Доходы с бизнеса обширны; жаль только, что неизвестен тот благодетель человечества, которому шаромыжники обязаны были бы ежемесячно отстегивать. Ведь именно он перевел «тат твам аси» как «я есть То», допустив грубую ошибку. Корректный перевод с санскрита звучит с точностью до наоборот: «То есть я» и приводит нас с необходимостью к совершенно иным, довольно некоммерческим выводам.
Увидеть «субъект», т. е. «того, кто видит», – задача, в принципе, простая и банальная, но – кто его видит? Если зрить в корень вопроса, можно увидеть, что количество этих замечаемых краем глаза «кто», построенных в огромную очередь, весело и радостно стремится к бесконечности. Никто и никогда не нашел в этой очереди «крайнего» – тот «предельный субъект», дальше которого уже как бы ничего нет. Если исследователь действительно внимателен, он скоро обнаружит, что попросту дурачит сам себя, выставив в уме два зеркальца одно напротив другого. В игре отражений может появиться нескончаемо много маленьких монстриков, но вот вопрос: где же расположилась вся эта толпа? Не маловато ли будет ей места в одной скромных размеров голове?
Приходится признать: любой «смотрящий» на «я» не может по определению находиться ни в каком ином месте, нежели точно там, где находится само это «я», а именно – прямо здесь! Средневековые схоласты забавлялись, говорят, решением одной задачки, которая – так принято считать – выдает их, схоластов, чрезвычайную оторванность от жизни, болезненную узколобость и как следствие склонность время от времени поджаривать на кострах порядочных людей. Задачка была такая: «Сколько чертей может уместиться на кончике иглы?» Кончик иглы удивительно напоминает точку, с которой мы уже довольно долго возимся, – пускай и в переносном смысле. А что до пресловутых «чертей» – то тут, думается нам, схоласту достаточно было просто-напросто взглянуть в зеркало. Ежели некий умник додумывался все же до правильного ответа, он понимал: любое «Всё» (точнее, просто «Всё») может находиться только в одном месте, характеристики которого не отличны от характеристики точки, и пребывает оно там вкупе со своей «естьностью» и «воспринимаемостью». Ибо где еще может находиться воспринимаемость, как не «здесь»?
Подведем промежуточный итог: неопровержимая «естьность» не может быть как минимум пространственно отделена от своей неопровержимой «воспринимаемости». Это означает: нет и не может быть никакого внешего «свидетеля», пребывающего где-либо «там» по отношению к данному «здесь». Его бесполезно искать, бесполезно «выделять», бесполезно на него молиться и медитировать и даже – о ужас! – бесполезно пытаться им быть. Нельзя быть тем, чего нет, – хотя порой и страсть как хочется.
Здесь нам неминуемо придется коснуться одной «священной коровы», трогать которую без соответствующего соизволения особо уполномоченных инстанций как правило не дозволено. Это «трансцендентность». Подавляющее большинство религиозных систем строится на одном базовом тезисе: Бог (или то, что Богом считается) имеет абсолютную «естьность», но пребывает при этом принципиально «не-здесь», то бишь: трансцендентен миру (или, если угодно, Творению). Соответственно, Бога нет нигде, поскольку любое «где» обязано быть имманентным, посюсторонним. Удивительным образом в этой весьма древней и сугубо религиозной идее была с самого начала заложена тикающая бомба атеизма, которая немедленно рванула, как только настал срок.
Обыскавшись Бога в имманентности, искатели-следопыты взяли – и объявили пресловутую трансцендентность поповской выдумкой! Логично: в телескоп ее не увидишь и на космическом корабле туда не долетишь. И это, полагаем мы, не только логично, но и совершенно верно во всех смыслах. Трансцендентности не существует! Мы не верим в Творца, существующего отдельно от Творения; также не верим мы в любой из родов, видов и подвидов «чистого Сознания», Абсолюта и иже с ними, пребывающих «где угодно» по отношению к «здесь». Таковые Творцы и Абсолюты, с нашей весьма субъективной точки зрения, просто не могли бы существовать, поскольку были бы лишены «естьности».
Это отнюдь не означает кумачового «Бога нет!» и иных заявлений подобного рода. Мы рискуем утверждать совершенно иное: «естьность» Бога ни на одну малейшую толику не отличается от «естьности» вот этого смартфона, этой бутылки пива и этой мысли, заводящей наши размышления в одни лишь Богу ведомые дали. Чего действительно нет – это разделения на «трансцендентное» и «имманентное», на «этот» мир, лежащий, разумеется, «во зле», и некое «там, где нас нет», но все очень и очень хорошо.
Более того: пресловутая «трансцендентность» всегда была ничем иным, как ловким орудием в шаловливых ручонках схоластов, браминов, ксендзов и им подобных. Какой шикарный у них получился Бог: раз Его нет нигде, можно смело торговать Его всевышней франшизой. Впасть в руки «Бога живаго» эти господа, ясное дело, совсем не хотели – да и не знали, к счастью и покою своему, где эти руки вообще находятся. Но Бог действительно жив, и Он здесь – в самом прямом смысле этого слова. Впрочем, у Него совсем нет желания хватать кого-нибудь руками.