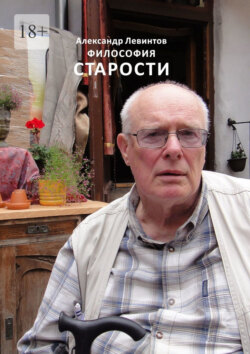Читать книгу Философия старости - Александр Левинтов - Страница 6
(рефлексия поиска)
Философия философии
ОглавлениеПрежде, чем приступать к философии старости, хотелось бы обсудить философию философии.
Философии доступно все, в том числе и сама философия. Более того, философская рефлексия или философия философии – любимое и основное занятие философов: все остальное, например, происхождение и устройство мира, им почему-то не так интересно.
Эта всеядность и неразборчивость философии в выборе темы философствования накладывает жесткий запрет на формулировки разного рода «основных вопросов философии», поскольку для философии основными являются все и любые вопросы. Каждому из них, за счет философской спекулятивности мышления, можно придать витальный и вселенский характер.
Забавный спор у меня, шкодливого студента, возник сорок пять лет назад, в 1962-м, на лекции по марксистско-ленинской философии:
– Основной вопрос философии в марксистско-ленинской философии решается однозначно: материя первична, а дух вторичен…
– Значит, дух все-таки есть?
– Ну да, но он вторичен…
– Как чугун и сталь относительно руды и угля: сначала руда и уголь, а уж потом чугун и сталь?
– Это вы точно понимаете.
– …и нам, строго говоря, сама по себе руда не нужна – нам нужен вторичный материал из нее?
– Но ведь материал!
– Не совсем: нас же не сами чугун и сталь интересуют, а изделия из них: то, что имеет форму, а бесформенный материал – вторичен. Форма металлообработки относительно руды даже третична, но именно она нас интересует, да и то – как средство. Нам важны четвертичные результаты: например, слова, написанные стальным пером
– Но ведь руда все равно остается первичной!
– А вот тут, в случае с философией, она становится вторичной.
– Почему же?
– Философ ведь не с рудой работает: он из одних слов и смыслов создает другие слова и смыслы, а чем он их создает – гусиным пером, китайской кисточкой, стальным пером или шариковой ручкой – вторично и неважно…
– Но ведь сам философ – лишь надстройка.
– Вы хотите сказать, что вы – надстройка над рудокопом? Вы, конкретный философ, над каким конкретным рудокопом вы надстройка? А если вы не знаете этого рудокопа, то вы либо не типичный философ, либо не типичная надстройка, а уникум и оригинал.
– Пожалуй, последнее ваше замечание совершенно справедливо: приходите ко мне на экзамен, и я покажу вам нечто оригинальное – обхохочетесь.
Аудитория грохнула, философ победил, а на экзамен я пошел к другому, на всякий случай – не люблю сюрпризы.
***
По сути и природе своей философия не имеет истории, прежде всего -таких ее непременных атрибутов, как хронология, последовательность, периодизация – с одной, и культура – с другой.
Философия не укладывается ни в какие границы, законы, нормы, стили и культурные парадигмы: на всякого скучного Гегеля тут же найдется неистовый Артур Шопенгауэр, а Ницше и Достоевский одновременно пишут об одном и том же, но прямо противоположное. Как только философия пытается втиснуться в некие культурные стойла, она мгновенно превращается в университетский курс и перечень вопросов для сдачи экзамена. Нет, не зря Огюст Роден разместил Мыслителя в центр Врат Ада.
Вызывает всеобщее презрение, особенно среди своих, философ, занимающийся наведением культурного порядка в философии: авторы учебников по философии, энциклопедических статей и философских словарей. Чтение подобного рода литературы вызывает у простого человека приступ непреодолимой зевоты, а у философствующего – изжогу недоумения.
Да, у философии, скорее всего, нет истории, но есть судьба: породив науку и религию, она находится с ними в самых драматических отношениях – от инцеста до суицида.
Судьба философии трагична именно в моменты ее восторга, торжества и апогея. Вся пошлость университетского филистерства в Германии и по времени и по личностям пала на золотой век германской философии Канта, Гегеля, Фихте и Шопенгауэра. Вся пошлость французского революционного пафоса совпала с именами Вольтера, Сартра и Камю. Русский культурный декаданс, называемый ныне Серебряным веком – это колыбель отечественной философии.
Философия, в отличие от истории, ничему не учит, уроков не преподает, ни по каким спиралям не развивается, циклов (Кондратьева, Чижевского…) не имеет, как это неоднократно, беспрерывно и бесполезно происходит с историей и в истории.
Но именно внеисторичность философии позволяет философам спокойно гулять по временам, проникать в суть настоящего, прошлого и будущего, вплоть до потрясающих деталей, как это сделал в середине ХХ века Иван Ильин, как спокойно смотрели в глубины будущего Платон и Аристотель, апостол Иоанн, Экклезиаст и библейские пророки.
У философии нет и географии – она локализуется в уединениях.
Это, вообще говоря, происходит от предназначения философии и человека: «человек – существо, обязанное доказывать свое присутствие в мире своими размышлениями» (Мартин Хайдеггер). И потому и философия, и мы сами – явления случайные: мы никому не нужны и даже мешаем своим присутствием всему остальному миру по той простой причине, что без нас он был бы просто невозможен, если следовать сильному антропному принципу космогенеза. Всеобщая, вселенская, космическая необходимость в нас делает нас неуместными в деталях и каждой конкретной ситуации.
Случай в философии – статистически достоверная невероятность встречи с разумом, попадания в сферу мышления. Событие (со-бытие) – наличие при этом случае свидетеля, до такой же степени случайного (читателя или слушателя), как и мыслитель.
Философский дискурс четко распадается на устный и письменный. Сократ так ни одной своей мысли и не записал и вошел в историю мыслителем. То, что записали за ним Платон и Ксенофонт, по-видимому, не имеет ничего общего со сказанным им: устная речь, особенно философская, строится по совершенно другим грамматическим и логическим законам, чем письменная. Те, кто слышали живую речь Пятигорского и Щедровицкого и восхищались ею, потом с горечью и недоумением признавались (у кого, конечно, хватало духу и совести): в письменном виде впечатление совершенно не то…
И наоборот: с лекций Гегеля студенты сбегали при первой же безнаказанной возможности, Аристотель отличался крайним косноязычием, а слушать Лефевра приходится с огромным напряжением терпения. Все трое отличаются необыкновенно убедительной письменной речью.
Вокруг коммуницирующих философов формируются школы: Академия, Ликей, Стоя, Французская Школа – с шлейфом и кортежем учеников, конкордансом идей и мнений. Эзоп, Кьеркегор, Ницше и другие философы-отшельники так и остались камнями, скалами, глыбами, вершинами, незамутненными ничьим посторонним присутствием.
Это различие возникает из двух принципиально различных способов философствования: одни начинают философствовать, вступая в коммуникацию, как правило, не требующую толпотворения (неважно, будет ли эта коммуникация проходить полулежа, как в «Пире» Платона, или стоя вокруг Пестрой Стои и в непрерывном хождении Аристотеля и перипатетиков), но достаточно интимную и уединенную – так уединялись Толкиен, Льюис и Честертон. Другие впадают в одиночество, столь глухое, что весь окружающий мир становится условной декорацией современного театра, необязательной и ненужной.
Если в первом случае коммуникация порождает мышление, то во втором мышление – коммуникацию. Но и тот, и другой вид философствования – от избытка себя: богат не тот, кто много имеет, а тот, кто много тратит, кто возделывает и отдает данный ему талант. Философ – не тот, кто много думает или знает, а тот, кто выкладывает свое богатство, не думая, не заботясь и не печалясь о пользователях, пользе, мзде и ценах. Потому что истинная мысль порождает другую мысль, и если по поводу мысли не возникает другой, значит, это вовсе и не мысль, а тугая дума.
Принадлежность к той или иной философской школе обнаруживается нами обычно неожиданно: мы не ищем учителей, но вдруг обнаруживаем необыкновенное единство и родство, мгновенное и радостное понимание читаемого философа. Строй мысли, мировоззрение, стиль или тема размышления могут оказаться настолько привлекательными, что мы признаем за скромным или великим авторитетом право быть нашим Учителем, а себя причисляем к его ученикам. Хорошо, когда таких учителей много, но и один учитель – не беда.
Философия подобна таинству хлебопечения, виноделия, зачатия: это всегда игра вдвоем – человек бросает кости, падение которых определяется Богом. Что выпадет, то и выпадет – важно бросать. Так возникает природное смирение любого философствующего перед разворачивающимся результатом философствования. И если свет в иконографии золотого цвета, то какого цвета мысль, порождающая свет? Какого цвета Логос?
Философия началась с того, что «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ее» (Быт. 2.19). Я долго не мог понять, почему человеку было поручено назвать только одушевленные существа, пока не понял: то была понятийная работа, предваряющая всякую жизнедеятельность. Человеку предстояло дать имена-понятия субъектам совместной с ним жизнедеятельности; камни и прочие недвижимости могут быть поименованы позже, по мере включения в деятельность в качестве ее объектов.
Понятийная работа – одно из сложнейших философских занятий, а это значит, что человек шел и идет в своем философствовании не от простого к сложному, а от необходимого – к достаточному и избыточному. Вероятно, именно поэтому современная философия часто смотрится как излишняя и избыточная: она занимается подчас вещами не очень нужными, оставляя втуне, по нашей лености, нечто очень важное и насущное.
Страшно не то, что все начнут философствовать – это бы и слава богу, это как на спутниковой фотографии ночной Земли: всюду искры разума и света. Страшно – если прекратят. Все. Этот мир дан нам для прочтения, толкования и осмысления. И если мы прекратим это, мы и сами погибнем, и мир погубим. И еще раз поймем цели отправлявших и помянем два парохода с несчастными и изгнанными отечественными философами, этот философский Холокост. А потому – с тихим упорством и робкой уверенностью в правильности пути – подумаем.