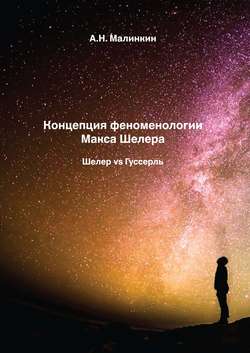Читать книгу Концепция феноменологии Макса Шелера. Шелер vs Гуссерль - Александр Малинкин - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предисловие
ОглавлениеМакс Шелер (1874–1928) известен в России. Сегодня мы знаем о нём больше, чем в советское время, когда многие его книги хранились в спецхранах и не переводились[1]. С начала 1990-х годов ряд произведений Шелера был переведён на русский язык. И всё же есть все основания считать, что философски образованные россияне ещё не имеют полного и адекватного представления о взглядах этого немецкого мыслителя. До сих пор слишком мало его книг переведено на русский[2], а это имеет решающее значение. То же самое можно сказать и о других зарубежных философах, работы которых до 1985 г. не переводились по идеологически-цензурным соображениям.
Не удивительно, что у людей складываются об этих авторах односторонние схематичные представления, аналогичные стереотипам, которые формируются в общественном мнении. Сложились они и о Шелере. Причины понятны: неизбежное разумное ограничение круга интересов (специализация) историков философии и недостаточность базы освоенных ими источников. Невозможно знать всё и разбираться во всём одинаково хорошо, поэтому исследователи вынуждены принимать на веру в качестве «истин» то, что узнали от других исследователей, другие – от третьих и т. д. Но, как известно, людям свойственно ошибаться. Учёные вообще и историки философии, в частности, – тоже люди. Вот почему в той или иной мере стереотипизированное восприятие предметов, проблем и персоналий – непреходящее явление научной жизни.
Здесь важен и ещё один фактор: некоторые переведённые на русский язык книги волею судеб завоёвывают авторитетные позиции в практике преподавания. С одной стороны, это факт отрадный. С другой стороны, переведённые работы, отражающие взгляды мыслителя на каком-то этапе его творческой эволюции, начинают репрезентировать его взгляды вообще. «Повторение – мать учения». И вот уже выработанные на базе этих книг-первоисточников представления о предмете, проблеме или персоналии, воспроизводимые из года в год, превращаются в устойчивые клише, а они – уже в силу рутинного механизма системы образования – окончательно утверждаются в форме само собой разумеющихся прописных истин.
Казалось бы, кому как не самим учёным, бороться со стереотипами – ведь они сродни предрассудкам. Но не всё так просто. Потому и остаются сапожники без сапог, а в пожарной части иногда случаются пожары. Представителям наук свойственна, по словам Э. Гуссерля, та же наивность, что и обычным людям в повседневной жизни, – только это «наивность более высокого уровня». «…Даже на высоком уровне развития современных позитивных наук мы сталкиваемся с проблемами оснований, с парадоксами и неясностями. Первичные понятия, которые проходят через всю науку и определяют смысл её предметной сферы и теорий, возникли в наивной установке, обладают неопределёнными интенциональными горизонтами и представляют собой грубые продукты наивной и неосознанной интенциональной работы»[3]. Может быть, историко-философская наука – «не такая» и являет собой исключение из «позитивных наук» в том смысле, в каком их понимал Гуссерль? Может быть, она и есть подлинная философия, как считал Гегель? Едва ли стоит поддаваться самообольщению.
Кроме неясности и недостаточной осознанности внутренних предпосылок циркулируемого в научно-образовательной среде знания, есть ещё и внешние факторы, влияющие на регуляцию предпочтительного отбора направлений научного познания, на канонизацию видов научно-образовательного знания и их содержания. В последние десятилетия социальные институты науки и образования под влиянием политических, экономических и социокультурных условий претерпели существенные изменения, причём не только в нашей стране, но и во всём мире. В результате внутренние механизмы их функционирования трансформировались так, что усилилась их внешняя зависимость, в частности, от государственной и партийной политики, от экономических источников финансирования (прежде всего фондов, выдающих гранты), от инициативных групп гражданского общества, а также от общественного мнения как основного резервуара всевозможных стереотипов и рассадника неписанных норм политкорректности.
Учреждения, составляющие социальные институты науки и образования, в той или иной мере интериоризируют эти внешние воздействия – они просто не могут этого не делать. С их учётом они вырабатывают собственные внутренние профессионально-корпоративные интересы, соответствующие им «философии» и «идеологии». Какими бы ни были они в содержательно-смысловом и ценностном отношениях – либеральными или консервативными, ориентированными прежде всего на западные стандарты либо преимущественно на отечественные культурные традиции – главное, что нет ничего сильнее них, когда речь идёт о мере влияния на формирование представлений об образцах научности исследований, о нормах академичности письма, о круге актуальных тем и проблем, перспективных для разработки, об авторитетности того или мыслителя, актуальности и значимости его идей и т. п.
Разумеется, прописные истины школьного образования полезно время от времени ставить под сомнение и подвергать ревизии, чтобы они и дальше не воспроизводились автоматически. В этом смысле ещё один взгляд на феноменологическую концепцию Шелера не будет лишним. Поскольку автор этих строк, вероятно, внёс свою лепту в формирование сложившихся научно-образовательных стереотипов о взглядах Шелера[4] (судить об этом читателям), постольку эту книгу можно рассматривать и в качестве самокритики – как попытку корректировки раннее данных оценок и формулировок.
Макс Шелер известен у нас в первую очередь как философ – основатель современной философской антропологии. Между тем, наследие Шелера включает в себя оригинальные концепции феноменологии, религии, аксиологии, этологии, социологии, политики, идеологии и др. Трудности в их понимании усугубляются тем, что шелеровские доктрины познания, Бога, социума, истории, человека претерпели в поздний период творчества изменения. Российской образованной публике, несомненно, ещё предстоит открыть для себя Шелера с не известных ей сторон и оценить по достоинству его самобытный талант.
В этой книге мы ставим перед собой ограниченную цель: дать общую характеристику концепции феноменологии Макса Шелера с особым акцентом на её специфических отличиях от феноменологической доктрины Эдмунда Гуссерля. Такой акцент оправдан объективно, потому что сам Шелер считал необходимым подчёркивать оригинальность своего понимания сущности философии вообще и феноменологии, в частности. Его взгляды на феноменологию, хотя и испытали влияние первых ранних идей её «отца-основателя» Э. Гуссерля, с самого начала отличались от них (а впоследствии ещё более радикально). Так, исследователь философии Шелера Манфред С. Фрингс характеризует расхождения между Гуссерлем и Шелером в понимании феноменологии как «глубокие» и «фундаментальные»[5].
Автор этих строк не претендует на роль арбитра в предметных разногласиях между Шелером и Гуссерлем, хотя для читателя, разумеется, не останется секретом, на чьей стороне его симпатии. Свою задачу автор видел скорее в том, чтобы сравнить наиболее значимые идеи немецких философов через сопоставление и анализ наиболее важных фрагментов их текстов, касающихся принципов феноменологии. Это сделало необходимым обильное цитирование, местами реферативный, комментаторский стиль изложения. Впрочем, тому есть и другое объяснение: Шелер и Гуссерль излагали свои мысли, как известно, обстоятельно и пространно. Элементарное уважение к ним и российским читателям не позволило нам выдёргивать из их текстов отдельные высказывания, чтобы использовать их в качестве, так сказать, приправы к собственному главному блюду. Для нас не пример «блестящие» историко-философские труды, где великие мыслители прошлого предстают недоумками на фоне всезнающего гениального автора, который либо не предоставил им слова вообще, либо ограничил их право голоса куцыми фразами. Это, с одной стороны не скромно, с другой – не справедливо. Вероятно, несмотря на сказанное, кому-то всё равно захочется увидеть в щедром цитировании недостаток. Licitum sit. Зато у читателя будет возможность адекватно понять и оценить образ мыслей Гуссерля и Шелера, а также познакомиться с ранее не переводившимися работами последнего.
Достижение этой цели предполагает решение побочной задачи, а именно – скорректировать сложившиеся в России представления о Шелере как феноменологе. Это не предполагает системную всеохватывающую реконструкцию его взглядов[6]. В первом приближении эту сложнейшую работу уже выполнил Манфред Фрингс[7]. Но это всего лишь начало. Полная и всесторонняя реконструкция философии Шелера потребует, видимо, ещё специализированных исследований. Наша книга может быть полезна скорее намеченными в ней темами и смыслологическими ходами. В ней будут затронуты лишь наиболее важные аспекты шелеровской концепции феноменологии, которые, по нашему мнению, получили недостаточное, не вполне точное либо тенденциозное освещение.
Так, многие считают, будто Шелер исходил из понимания феноменологии, которое установил и затем модифицировал Э. Гуссерль и которое Шелер у него якобы «позаимствовал». Зачастую для характеристики того, как Шелер отнёсся к первому тому «Логических исследований» Гуссерля, пользуются термином «рецепция»[8]. Под рецепцией обычно подразумевают согласное восприятие и последующее отношение к воспринятому как к само собой разумеющемуся исходному пункту в эволюции собственных взглядов. Но так ли Шелер относился к «Логическим исследованиям»? Был ли он учеником Гуссерля? Рассматривал ли он гуссерлевскую трактовку феноменологии в качестве исходного пункта? И стала ли она фундаментом для построения философии Шелера? Ответы на эти вопросы читатель найдёт в книге.
Распространён также взгляд, будто в начале 1920-х годов интерес к социологии «вытеснил» у Шелера интерес к феноменологическим исследованиям, как если бы до этого он не занимался проблемами социального познания, и как будто бы его ранняя социология, будучи исторически первой и в подлинном смысле феноменологической социологией, не стала аксиоматическим ядром его поздней «социология знания». Не удивительно, что, когда говорят о последней, молчаливо предполагают, будто вся социология Шелера ею и исчерпывается. Но разве это так? Ведь уже в книге «Формализм в этике и материальная этика ценностей» (1913–1916) Шелер изложил принципы своей «чистой», или априорной социологии, т. е. обоснованной феноменологически. Разве он отказался от них либо пересмотрел их в своей «социологии знания»?
Наконец, утвердилось мнение, что феноменологическая социология знания вообще началась не с Шелера, а с А. Шюца, и своё подлинное развитие получила якобы лишь в трудах его последователей П. Бергера и Т. Лукмана – прежде всего в их совместной работе «Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания» (1966; русский перевод – 1995). В этом мнении верно только то, что в последней работе вечно живые идеи и неисчерпаемые проблемы познания были преподнесены в яркой и совершенной, но абсолютно догматической форме, поэтому были восприняты неофитами как истины в последней инстанции. «Социальное конструирование реальности…» П. Бергера и Т. Лукмана для феноменологической социологии знания – что-то вроде «Науки логики» Гегеля для философии второй половины XIX века. Как в то время, так и сейчас у мыслящих людей возникает естественный вопрос: ну, хорошо – а что дальше? Неужели … конец?
Это мнение подкрепляется поверхностным представлением, будто феноменология, социология и философская антропология – вообще отдельные самостоятельные философские «дисциплины». Если учесть, что большинству гуманитарно образованных россиян Шелер известен только как автор «Положения человека в космосе»[9], становится понятным, почему им не видна глубинная сущностная связь этих «дисциплин» друг с другом – ни у Шелера, ни вообще. Эта работа, где с сильным креном в «метабиологию» и с учётом жёстких требований редактора («никакой религии!») Шелер, отталкиваясь от текста сделанного им многочасового доклада, кратко изложил своё позднее, «метафизическое», видение человека, позиционируется в образовательной традиции как якобы внезапный поворот и как творческая вершина в эволюции его взглядов. На наш взгляд, не вполне верно ни то, ни другое. Человек и его личность были в центре философских исканий Шелера с самого начала – с полемики с Ницше о роли ресентимента в построении моральных систем (1912–1913), в «Формализме…», в работе «К идее человека» (1915), а также во многих материалах из рукописного наследия того времени, среди которых выделяется «Ordo amoris» (1916). Разве не указывают на это прямо его собственные слова: «В известном смысле, все центральные проблемы философии можно свести к вопросу о том, что такое человек, каковы его метафизическое место и положение внутри целостности бытия, мира и Бога»[10]; «Вопросы «Что есть человек и каково его место в бытии?» – занимали меня с момента пробуждения моего философского сознания и казались более существенными и центральными, чем любой другой философский вопрос»[11]?
В том-то и дело, что для Шелера феноменология, социология и философская антропология образуют единство, экспликация и анализ которого как раз и является его выдающейся заслугой. Кто не видит фундаментальных философско-антропологических и социально-философских («социологических») предпосылок феноменологии Шелера, тот и его философскую антропологию воспримет как научно-популярную эволюционистскую доктрину: камень, растение, животное, человек. И уж тем более для него останется непонятным отличие его концепции феноменологии от гуссерлевской.
Благодарю профессора Манфреда С. Фрингса за помощь в создании условий для изучения трудов и наследия М. Шелера, профессора А.М. Руткевича за многолетнюю поддержку в работе, профессора А.В. Куренного за содействие в подготовке этого исследования.
1
Первой публикацией стал перевод фрагмента из работы М. Шелера «Проблемы социологии знания», выполненный автором этих строк (см.: Шелер М. О социологии позитивной науки // Социологические исследования. 1984. № 4).
2
Если собрать воедино и издать все переведённые на русский язык труды Шелера, то получится, наверное, не более двух томов среднего объёма в том формате, в котором опубликованы тома Собрания сочинений Макса Шелера. Между тем, в последнем 15 томов; издавалось оно после Второй мировой войны до середины 1990-х годов сначала под редакцией Марии Шелер (шесть томов), затем Манфреда С. Фрингса (восемь томов), один том вышел под их совместной редакцией.
3
Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 2001. С. 287.
4
Малинкин А.Н. Уроки истории: политологическая концепция М.Шелера и позднебуржуазный консерватизм // Социологические исследования. 1986. № 3. Малинкин А.Н. Философско-антропологическая концепция М. Шелера и проблема гуманитарной ответственности философа в современном обществе / Философия человека: диалог с традицией и перспективные исследования. Сборник работ молодых учёных к Всемирному философскому конгрессу. М.: Философское общество СССР, 1988. Малинкин А.Н. Персоналистическая социология Макса Шелера // Социологические исследования. 1989. № 1.
5
Nachwort des Herausgebers / Max Scheler Gesammelte Werke. Bd. 11: Schriften aus dem Nachlass. B. II. Erkenntnislehre und Metaphysik. Bern und München: Francke Verlag, 1979. S. 274.
6
Тем более это относится к Э. Гуссерлю.
7
Frings M. S. The Mind of Max Scheler. The first comprehensive guide based on the complete works. Marquette university press, 1997. Мы исходим из того, что читатель знаком с философией Шелера, по крайней мере, в общих чертах.
8
См., например: Габель М. Человек – движение к божественному? / Шелер М. Философские фрагменты из рукописного наследия. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. С. 48.
9
Впервые на русском языке эта работа была опубликована в книге «Проблема человека в западной философии». М.: «Прогресс», 1988.
10
Scheler M. Zur Idee des Menschen / Max Scheler Gesammelte Werke. Bd. 3: Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze. Bern und München: Francke Verlag, 1972. S. 173.
11
Scheler M. Die Stellung des Menschen im Kosmos / Макс Шелер. Избранные произведения. Москва: «Гнозис», 1994. [S. 131].