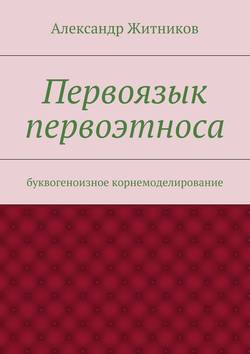Читать книгу Первоязык первоэтноса. буквогеноизное корнемоделирование - Александр Михайлович Житников - Страница 9
Первоязык первоэтноса
Гео-и-биогенезис Земли
Эдуард Лартэ: открытие кроманьонского человека ориньякской культуры
ОглавлениеЭдуард Лартэ, первооткрыватель ориньякской каменной культуры кроманьонского человека, непосредственного предтечи современного человека, неоантропа, хорошо был осведомлён о тех исследованиях каменной культуры «допотопных людей», которые вёл Буше де Перт на реке Сомме, в окрестностях городка Аббевиля и был горячим его последователем, фактически продолжившим дело Буше де Перта в исследовании «допотопного человека». Ему удалось внести достойный вклад в дело становления палеоантропологии, как научной дисциплины; он, как и Буше де Перт, стоял у истоков её формирования.
Так, в 1860 году, именно к нему, как эксперту по первобытной культуре, попали находки Бонмезона из заячьего схрона, обнаруженные под известняковой плитой в 1, 5 км от Ориньяка. Среди них он обнаружил обломки рога обыкновенного оленя, клыки пещёрной гиены и пещёрного льва, коренные зубы лошади и быка. Все ископаемые останки относились к видам, давно вымершим. Узнав, что в схроне, кроме ископаемых останков животных находились ещё около 17 останков людей, Эдуард Ларте самолично приступил к исследованию ориньякского склепа, где он нашёл много «наилучшим образом обработанных камней, а также самых лучших образцов изделий из рога северного оленя». Особого внимания заслуживали те изделия, в которых чувствовалось уже не только утилитарное предназначение, но и просматривалось желание придать ему определённое совершенство, т. е. реализовать в актуально данном предмете творческое своё предназначение. Так, внимание Эдуарда Ларте, привлёк зуб пещёрного медведя, превращённый ориньякским умельцем, в головку птицы, для чего, художник из ориньяка, надрезал узкую канавку на конце зуба (клюв) и выгравировал углубление с чёрточкой над клювом, получился глаз. На другом конце зуба мастер просверлил сквозное отверстие, что дало возможность использовать его в качестве амулета-подвески (оберег). Там же была обнаружена пустотелая фаланга ступни северного оленя, просверленная снизу; она издавала пронзительный свист, если бы кто-то пожелал подуть в это отверстие.
Вне грота находился очаг, где Эдуард Лартэ обнаружил «множество зубов травоядных животных, в том числе быков и носорогов… преднамеренно разъединённые пластины двух огромных зубов слона… Сотни осколков кремней залегали в углистой земле очага… Тут же лежали массивные кремневые желваки-нуклеусы, от которых отделялись… пластины (типа пластинчатых ножей), и выполненный из гальки отбойник… К наиболее впечатляющим находкам относились два кремневых метательных наконечника и множество разной формы орудий, изготовленных большей частью из самых твёрдых частей рога северного оленя, в том числе метательные острия, гладила для разглаживания швов на одежде из шкур, загадочное изделие со сквозным, овальной формы отверстием, а также выгнутый по всей длине стержень, заполированный с двух сторон… рога оленя, как и каменные инструменты, обрабатывались тут же на месте, у очага… Два орудия были изготовлены из рогов косули – аккуратно приострённое шило, удобное для прокалывания шкур, и очень острый колющий инструмент, который Лартэ оценил как инструмент для нанесения татуировки». (В.Е.Ларичев. «Прозрение. Гравюра мамонта». Москва, 1990 год, стр.57.)
Метровая толща пепла с материалами рукотворной деятельности человека перекрывала очаг и вход в погребальную камеру ориньякского склепа.
Эдуард Лартэ откопал погребённых, по приказу властей департамента Верхняя Гаронна, на приходском кладбище Ориньяка 17 ископаемых останков, обнаруженных Бонмезоном в «заячьем схроне», людей; при исследовании останков, а также костных останков зверей, давно вымерших и каменных орудий, принадлежащих людям, чьи останки изучались, Лартэ установил, что эти останки принадлежали людям, жившим в том же периоде, в котором жили животные, вымершие к нашему времени. В 1868 году, под скальным навесом грота Кроманьон около Лезейзи было найдено несколько захоронений; к месту находки прибыл Луи Лартэ, сын Эдуарда Лартэ. Он обнаружил 5 «допотопных» захоронений, идентичность которых ископаемым останкам ориньякского склепа, была подтверждена прибывшим к кроманьонскому захоронению, Эдуардом Лартэ, Э. Ривьера и П. Жиро. Так «человек природы» допотопной (палеолитической) эпохи получил по месту своей находки новое название – человек из Кроманьона или кроманьонский человек. А культура, сопровождавшая его бытие на земле, получила название ориньякской, по местности первоначального нахождения людей этого вида около поселения Ориньяк.
По внешнему виду Кроманьонский человек ничем не отличался от современного человека, неоантропа. Кроманьонский человек – это вполне сформировавшийся человек, Гомо сапиенс сапиенс. В 1872 году в Ложери – Бас и в Дюрути нашли ещё два захоронения кроманьонцев, а в 1873 в Солютре, в слоях «ископаемой эпохи», обнаружили три таких же погребения. География находок Кроманьонского человека с каждым годом всё больше расширяется. Так, в пещёре Квафзех, что около города Назарета, было найдено двойное захоронение: женщины (мать) и ребёнка. Это захоронение датируется возрастом около 100 000 лет и считается самым древним, из известных на сегодняшний день, захоронений кроманьонцев. В продолжение раскопок в Квафзехе, проводившихся с 1933 года, обнаружено ещё пять человеческих скелетов кроманьонцев. Бернар Вандермеер, французский историк древнего мира, в 1965- 1975гг., нашёл ещё останки кроманьонцев, принадлежащие шестерым взрослым и семерым детям. Все эти ископаемые находки имеют черты сильного сходства с европейскими кроманьонцами, появление которых в Европе зафиксировано на 60 тысяч лет позже.
В 1862 году Эдуард Лартэ обращается за финансовой помощью к английскому исследователю древностей, почитателю Буше де Перта, Генри Кристи. Генри Кристи, в 1856 году, в возрасте 46 лет (родился в 1810 году), оставляет службу в правлении одного лондонского банка, чтобы посвятить остаток своей жизни делу изучения «диких народов и первобытных цивилизаций». В Мексике он собирает каменные орудия из обсидиана; у эскимосов – костяные гарпуны. Побывал в Скандинавии, стране викингов, бывал и на знойном востоке. В 1856 году, в Гаване, Кристи повстречал будущего автора «первобытной культуры», Эдуарда Тайлора, который позднее назвал его своим наставником, подвигнувшим его к изучению первобытных культур. В 1861 году Генри Кристи посетил во Франции знаменитого к тому времени Буше де Перта, «крёстного отца» палеонтологии, а в 1863 году он был занят изучением африканской «доистории». Осенью 1863 года, Эдуард Лартэ и Генри Кристи встретились в посёлке Лезейзи, находящемся в долине реки Везер недалеко от городка Тейяк. Абель Лаган с братом Аланом, чьи коллекции «ископаемых костей» и «старинного оружия» из камня часами разглядывал Эдуард Лартэ в антикварной лавке месье Шарве в1862 году в Париже, за щедрое вознаграждение стали знакомить археологов с объектами, из которых они добывали экспонаты для антикварной лавки. В гротах де Анфер, Ложери- от, Ложери- бас, Комб – Граналь, Пэн де л азе, Ливейр, Мустье, Торж де Анфер и Лезейзи «на каждом шагу встречались следы пребывания первобытных людей». В гроте Мустье, на высоте в 24 метра над уровнем реки Везер, среди костей животных нашли такие же, как в ориньяке, «расчленённые пластины коренных зубов слона». Наибольший интерес исследователей был проявлен к каменным орудиям, разным по форме и размерам, но сходным с орудиями, находимыми Буше де Пертом в речных отложениях Аббевиля и Сант-Ашеля долины реки Соммы. Археологи нашли в гроте Мустье «наконечники копий, выпуклые с двух сторон и представленные здесь иногда очень тщательно обработанными образцами…, крупные копья, плоские или слегка вогнутые с одной стороны,…Простые или двойные скребла, удлинённые пластины-ножи, многочисленные на других стойбищах» в этом гроте были немногочисленны и «сделаны довольно небрежно». «Особую окраску стоянке» придавали многочисленные режущие орудия, обработанные лишь с одной стороны и «с чуть искривлёнными лезвия», которые «очень напоминали лезвия топоров современных плотников». «Некоторые из этих орудий большого размера были вполне пригодны для рубки деревьев и дробления крупных костей млекопитающих». В пещёре Лезейзи были найдены» блоки-матрицы» кремня, т. е. нуклеусы; от нуклеусов отбойниками отделялись пластино-образные заготовки, из которых готовились разнообразные инструменты: проколки, скребки, пластинчатые ножи, шилья… Однако, ни на одном из орудий не замечено следов шлифовки; все они изготовлены ретушированными сколами и обивкой. Большой интерес у исследователей вызвали загадочные блоки или булыжники зернистой породы, на верхней части которых были выбиты или высверлены глубокие впадины. Исследователи предположили, что они могли служить для добычи огня путём вращения в них деревянной палочки. В плитках брекчии (костно-каменных осколков раковин, зубов позвоночных и костей животных, связанных глинистым, известковым или железистым раствором, отвердевшим от времени) пещёр, гротов и внешних стоянках исследователи во множестве находили как производственные, так и художественные объекты «для строгого доказательства сосуществования человека и тех животных, костные останки которых оказались там». Лартэ и Кристи доказали всем оппонентам, находками из мест пребывания «допотопного человека», что «останки северного оленя на стойбищах долины Везера не относятся к античности… люди времён античности знали о северных оленях лишь по туманным рассказам скифов и галлов о землях полярных стран. На юге же Европы, в предсредиземноморье, эти животные (во времена античности) не обитали. Значит пещёрные стойбища, а также «внешние» стоянки Перигора юга Франции в самом деле относились к «допотопной эпохе».
Ключевое подтверждение этой концепции было найдено в гроте Ля Мадлен, где под скальным навесом, снаружи грота, была обнаружена стоянка «допотопной» эпохи долины реки Везер, раскопки которой происходили весной 1864 года. Было извлечены, сделанные из камня, длинные ножи, скребла, два овальных булыжника из гранита с углублениями на одной из сторон, много других изделий; Из рога – гарпуны с зубцами, иголья и ряд изделий, функциональное назначение которых было ясно только тем, кто их изготовлял. Были найдены в культурной толще, заполненной «смесью из костей животных и обработанных камней» останки человеческого черепа, половина челюсти и некоторое количество костей конечностей. Среди них было, обнаружено, пять фрагментов бивня мамонта; соединение фрагментов выявило изображение мамонта на его же собственном бивне. Хью фальконер, известный палеонтолог, увидев это изображение, сказал: «Это мамонт, изображённый человеком, который жил с ним в одно время». Фальконер обратил внимание Э. Лартэ на характерную, подтреугольную с крутым лбом, голову с хоботом, опущенным вниз, а плавно изогнутые линии, по мнению Фальконера изображали бивни. Затем Фальконер указал на пучки и полосы извилистых линий, нанесённых поперёк тела, которые могли изображать щёрстный покров животного, свисавшего клочьями с шеи и живота мамонта. Ещё в конце восемнадцатого века учёный мир ничего не знал о существовании волосатых слонов; но уже, в 1781 году, Болтунов, торговец бивнями, срисовал волосатого слона, найденного Шумаховым и послал рисунок в Петербург, откуда он попал в Геттинген к зоологу Иоганну Фридриху Блюменбаху, переславшего рисунок Кювье; Блюменбах и Кювье пришли к однозначному выводу: Шумахов нашёл «допотопного» слона, который с тех пор стал именоваться мамонтом. Это был слон ледниковой эпохи, т. е. мамонт, вымерший ещё до «потопа».
Франсуа Бурдье, исследователь первобытного искусства, заявлял: «Отныне надо было быть злонамеренным и недобросовестным, чтобы осмелиться утверждать, что человек не был современником исчезнувших крупных млекопитающих и не существовал за пределами 6000 лет библейской хронологии».
«Случилось действительно нечто фантастическое, на первый взгляд невозможное – людям открылись живые картины давно ушедшего в небытие мира, о котором несколько лет назад никто из живших на земле не имел ни малейшего понятия. Эдуард Лартэ и его ближайшие коллеги воскресили мир забытый, наглухо заваленный многометровыми пластами глины, скрытый от любопытных глаз под обвалами каменных глыб, запрятанный под тёмными сводами пещёр и гротов. И этот мир заговорил теперь языком искусства – гравюрами на камне, кости и роге, барельефами и скульптурами. Мир предков стал осязаемым, реальным, проступившим из мрака тысячелетий в подробностях, которые, казалось, не должны были сохраниться ни при каких обстоятельствах». (В.Е.Ларичев. «Прозрение», гл. «Звёздные часы», стр. 81, Москва, 1990 год).
Открытия следовали за открытиями; 60-ые годы девятнадцатого столетия были годами громких и сенсационных успехов палеоантропологии. Эжени Буржуа и Поль Делон, констатируют: «Наша наука позволяет подняться к истокам человеческой истории, где мы сталкиваемся с идеей полезного, которая породила индустрию. Идея же прекрасного дала начало искусству. Племена людей, современников мамонта, которые обрабатывали кремень Сент-Ашеля и Аббевиля, достигли уже определённого интеллектуального уровня».
О творческом характере кроманьонца свидетельствуют многочисленные находки изделий из камня, кости и рога, а также, мастерски исполненных изображений животных и графических символов на плоскостях каменных плит и стенах пещёр.
В мае 1867 года, в Париже, был проведён Международный антропологический конгресс, а также была организована Всемирная выставка в замке Сен-Жермен-ан-лэ, по инициативе Эдуарда Лартэ; на выставке рядом с гравюрой мамонта, находилось ещё 52 экспоната «допотопного искусства» кроманьонского человека. Выставку поддержал Габриэль де Мортилье. В 1866 году, в Швеции, состоялся первый международный конгресс антропологии и доисторической археологии; в бюро Международных конгрессов, главного координирующего центра предстоящих форумов исследователей доисторической археологии были избраны лидеры европейской науки, связанной с изучением первобытности: Эдуард Лартэ, Джон Эванс, Джон Леббок, Чарлз Лайель, Эдуард Тайлор и Поль Брока. Эдуард Лартэ был избран секретарём Бюро международных конгрессов.
«Эдуард Лартэ в последующее за раскопками в Ложери-Бас годы скрупулёзно обрабатывал коллекции из гротов и «внешних стоянок» Перигора, подготавливая к изданию фундаментальный труд – «Аквитанские древности», – посвящённый культуре человека «ископаемой эпохи» Франции. Одной из главных заслуг этого труда стало подразделение культуры палеолита на несколько этапов. Для каждого из них Лартэ выделил наиболее характерное животное: пещёрного медведя, мамонта, северного оленя и зубра, а также определил особенности каменной индустрии на тех же стадиях.
Это была первая и, как стало теперь ясно, основополагающая по значимости периодизация древнейшего прошлого человечества, убедительно обоснованная, с одной стороны, переменами в животном мире, а с другой – изменениями в способах обработки камня. Отныне культура охотников «допотопных времён» не могла более восприниматься как нечто единое и застывшее. Она эволюционировала и совершенствовалась от древнейших стадий, представленных стойбищами в гротах Мустье и Лезейзи, к более поздним, которые характеризовались материалами «внешних стоянок» Ложери-от, Ложери-бас и Ля Мадлен. Представленная Лартэ картина развития ранних культур каменного века стала своего рода эталоном для других исследователей Западной Европы». (В.Е.Ларичев. «Прозрение», стр. 89—90.)
*****************************************************************************