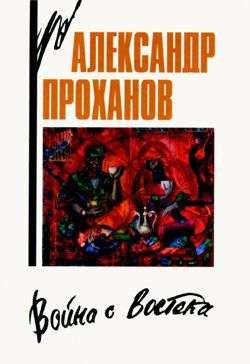Читать книгу Война с Востока. Книга об афганском походе - Александр Проханов - Страница 12
Часть вторая
Глава одиннадцатая
ОглавлениеГорожанин, выросший в каменных теснинах, среди московских закоулков, подворий, он больше дворовых игр, больше театра и книг любил природу. Уезжал на зеленой электричке сквозь дымные предместья, товарные склады, тепловозные депо. Сходил на лесном малолюдном перроне и шел наугад по дорогам, отдыхал у маленьких речек, выбредал к разрушенным старым усадьбам, останавливался на песчаных откосах, откуда синие волнистые леса катились на север, отрывались от невидимых океанов белые облака, и в падающем с неба луче загоралась далекая церковь, и в зеленой ржи кто-то шел, плутал в красной линялой косынке.
Он любил природу, а она любила его. Смотрела на него из-за туч, думала о нем лесными опушками, вслушивалась в него сумеречными полями, вглядывалась глазами цветов, крыльцами стрекоз, темными вершинами дубов. Она хранила его, обещала удивительную жизнь и удивительные поступки и знания, которые научат его перевоплощаться в теплый шумящий ливень, в душистый просторный ветер, в сверкающее снежное поле, в белые морозные звезды. Это знание было доступно. Протяни руку к колючей ветке заиндевелой лесной малины, сорви последнюю заледенелую ягоду, и вкус этого знания, его пряная сладость – у тебя на губах.
Эти мартовские желто-белые поляны словно вымазаны горячим желтком. Их с размаху пролетаешь на лыжах, окунаешься в синеву студеного леса. Голубые тени, красные сосны, свист лыжни, и испуганная сойка мелькнула, раскрыв лазурные крылья.
Майские одуванчики, когда под ногами ослепительные вспышки цветов. Луг, золотой, ярко-солнечный, в мохнатых душистых цветах. Берег реки, заречное поле, далекие холмы – все желтое, яркое, ослепительное. Краткое чудо русского раннего лета. Не верится, что черная холодная грязь, гиблые сухие бурьяны таят в себе этот взрыв вселенского света, живое золото, миллиарды лучистых соцветий.
Духота июльского полдня. На горизонте дыбом черная застывшая туча. А здесь на белой, пыльно-мучнистой дороге жар, босые ноги оставляют следы в пыли. Солнце палит, крутится сухой дымный смерч. И душа, изнемогая, обращается к далекой черно-сиреневой туче. Вот долетел, наконец, язычок ледяного ветра, нагнув траву. Светило закрылось непрозрачной клубящейся тьмой. Упали на дорогу со стуком тяжелые капли, западали, полетели, слились в тусклые проблески холодные струи. Ливень как удары тысяч стеклянных палок. Белая дорога стала пятнистой, почернела. Бабочка-капустница, попав под удары, силится взлететь, колотится о дорогу.
Осенний воздух, густой, как напиток, и ты пьешь его вместе с ароматом яблок, подвяленных красноватых осин. Ночью ты спишь беспокойно, веки золотые изнутри, золотое свечение лесов гуляет ночью в крови. Над крышей избы дует ровный огромный ветер осени, и кто-то незримый, в развеянных темных одеждах, шагает под туманными звездами.
Мороз, железные комья земли на дороге, стальные лужи с трещинами, под которыми сизые металлические пузыри. Голо, темно. Мир костяной – скелет мира, каркас мира. Над полями одиноко, тоскливо трепещет сорока. Но тебе сладко от твоего сиротства среди голых родных полей, безжизненных деревень, притихшей, забытой Богом земли. Ты веришь, знаешь – скоро задуют ветры, заструится по земле поземка, и падут снега, большие снега, укутают Русь в долгую чистую белизну.
Природа терпеливо ждала, когда он намается, налюбится, настрадается, утомится быть человеком и, утратив свое имя и облик, снова вернется в ее лоно.
Иногда он думал: если ему суждено умирать на больничной койке от страшной болезни, или в застенке среди пыток и мук, или у скользкой кирпичной стены перед дулом чужих стволов, – он в последние, самые страшные минуты вспомнит о зябкой ягоде на мерзлой малиновой ветке, о синих тенях в мартовском красном бору, о мокром снеге на старых тесинах забора, и смерть его будет не смертью, а возвращением в природу.
Среди батальонных хлопот, когда сотни людей, собранных на тесном пространстве, сталкивались в бесчисленных, незаметных глазу конфликтах, подавляемых жесткой дисциплиной и волей, и эта воля исходила от него, командира, и в ответ на него воздействовало множество встречных непокорных и упрямых стремлений, – среди повседневных военных и хозяйственных дел было у него развлечение: подняться на холм и в бинокль смотреть на Дворец.
Он видел, как сменялась охрана. Из подъезда выходили гвардейцы, накапливались перед входом – несколько взводов вооруженных, темневших на снегу солдат. Отправлялись в казарму по крутой, ведущей с горы лестнице, а вместо них во Дворец заступала другая гвардейская рота, занимала первый этаж.
Он наблюдал, как уносится кофейный «мерседес», сопровождаемый тяжелым японским автомобилем с охраной. Весь день Амин отсутствовал, заседал во Дворце Революции, окруженном стеной со старинными пушками. Возвращался поздно во тьме, брызгала фарами стремительная вереница машин.
Днем из Дворца выходила семья Амина. Жена, полная, тяжеловесная, в пушистой шубе, и две дочери, одна совсем маленькая. Они спускались в сад, мелькали среди белизны на обледенелом серебряном склоне. Старшая катала на санках младшую. Иногда они обе усаживались на санки, катились, переворачивались. В бинокль было видно, как плачет испуганная падением младшая и смеется, утешает, вытирает ей слезы старшая.
Однажды он видел, как вслед за детьми солдат-гвардеец вынес бумажного змея, запустил его по ветру. В синем морозном небе мотался, скакал, парил красный змей. Солдат поддергивал нить, а младшая дочь радостно плескала руками.
Калмыкову было любопытно наблюдать за ними, фантазировать, о чем они там говорят в своих гостиных и детских комнатах, какие книжки читают, какие сказки друг другу рассказывают. А когда во Дворец возвращался хозяин и вслед ему проходили дородные военные и величественные штатские, Калмыков старался представить, какие государственные проекты обсуждались в роскошном кабинете Амина, выходящем окнами на белые горы.
И еще он думал, как в глубине Дворца, в маленькой комнатушке среди запахов лекарств, живет врач, сутулый, узкоплечий, похожий на деревянную птицу.
Калмыков собирался в город, в посольство, за очередной суммой денег, на которые кормился батальон, закупая на рынке овощи, мясо, муку. Расулов, выбритый, с подстриженными усами, пахнущий одеколоном, напрашивался вместе с ним:
– Возьмите, товарищ подполковник! Забросьте в госпиталь!
– Разболелся? – усмехнулся Калмыков, открывая дверцу «уазика». – Совсем нет здоровья?
– Совсем! – кивал Расулов. Его темные глаза смеялись, а смоляные усы топорщились. Калмыков знал, что Расулов стремится к медсестре с розовой кожей и золотистыми под белой шапочкой волосами.
– Думаешь, носит твой перстенек? – поддразнивал Калмыков. – Может, уже другое колечко надела?
– Надо съездить проверить, командир! Носит или другое надела.
Они уже уселись в машину, собирались трогаться, когда к казарме подкатила знакомая «тойота» и Татьянушкин, в меховой куртке, в плоской кожаной кепочке, остановил Калмыкова.
– Главный военный советник прислал за вами!.. Генерал ждет вас на вилле! Срочно едем! – Обычно добродушное, приветливое, лицо Татьянушкина было жестким, с новыми, незаметными прежде чертами морщин, желваков, острых скул. Синие глаза потускнели, приобрели металлический серый оттенок.
Двумя машинами они промчались по Кабулу, по его морозному пару, сквозь запахи хлеба и дыма. Высадив Расулова у госпиталя, Калмыков вслед за «тойотой» въехал в железные ворота знакомой виллы.
Они сидели втроем, генерал, Калмыков и Татьянушкин, в теплой гостиной за низеньким столиком, на котором стояла каменная пепельница, склеенная из лазурита и яшм. За окном, весь в снегу, белел сад. Из-под снежных куп ржаво желтели высохшие обледенелые розы, а там, где недавно струилась вода фонтана, теперь блестела наледь.
Генерал, сухой, строгий, с лицом, напоминающим смуглую доску в потолке избы, в суках и трещинах, расспрашивал Калмыкова:
– Как здоровье? Как самочувствие?… Акклиматизацию прошли? Климат в Кабуле хороший! Недаром восточные цари устроили здесь свои резиденции… Но русскому человеку, конечно, лучше России ничего не найти!.. Был сейчас в Москве, на приеме у министра, ну, друзья позвали на кабанью охоту. Кабана завалили, в сторожке, в избушке баньку истопили! Так хорошо, так славно! На год силы скопил!
Генерал улыбался, но лицо его оставалось сухим, строгим. Калмыков старался понять, куда генерал клонит, куда ведут его рассказы о кабаньей охоте, на какую тропу и след. Он чутко, молча внимал, стремясь разгадать генерала.
– Надеюсь, вы успели разобраться в обстановке? Сложная обстановка, запутанная. Революцию надо не только уметь делать, но и уметь защищать. А они, похоже, революцию с успехом проваливают. Земельная реформа проваливается – не берет народ землю! Реформа образования проваливается – не пускают девчонок в общие классы. Оппозиция крепнет, получает оружие из Пакистана!.. Если революция здесь проиграет, мы с вами получим на южной границе Союза враждебный исламский режим. Один уже есть в Иране, другой будет здесь, в Афганистане. Это не лучший подарок нашему государству!
Калмыков вдруг увидел бабочку. Желтая, полупрозрачная, она слабо шелестела крыльями, трепетала у стекла, за которым был зимний сад, снег и солнечный лед. В тепле гостиной, спасенная от стужи, она стремилась обратно в сад, где еще недавно летала среди бархатных пахнущих роз. Калмыков следил за бабочкой с тончайшей мукой, слушал генерала, чувствуя, что его ведут по стезе, к чему-то приближают. Стремился понять к чему.
– Нет у нас, к сожалению, глубоких специалистов по исламской проблеме! Ни в МИДе, ни в разведке, ни в армии. Не могли предугадать события. Все старые кадры потеряны. А ведь когда-то, при царе-батюшке, были отличные специалисты по Средней Азии и Афганистану. Я специально рылся в библиотеке Генерального штаба. Русские военные изучали климат Афганистана, почвы, броды на реках, дороги через перевалы, нравы, виды продовольствия и товаров. Где можно конницу провести, где артиллерию, а где лишь пехоту! Готовились воевать на этом театре. Нам до них далеко!
Бабочка оторвалась от стекла, полетела в глубину гостиной, покружила у люстры и снова устремилась на белый блеск снега. Ударилась о стекло, забилась, пульсируя желтыми прозрачными крыльями. Калмыков слушал шелест ее перепонок, старался различить тот звук в генеральских словах, который выдавал истинный смысл разговора. Этот смысл был известен Татьянушкину, таился в его стальных глазах, в жесткой выбоине подбородка, в сухих отточенных скулах.
– Амин оказался предателем, палачом своего народа! Мы доверяли ему, Тараки ему доверял! Он обманул Союз, обманул Тараки. Амин проводит аресты в армии, аресты в партии! Применяет самые изуверские пытки, а потом расстреливает! Он хочет уничтожить партию. Есть сведения, что он начал переговоры с целью создания коалиционного правительства! Нам стало известно также, что он агент ЦРУ!
Бабочка исчезла. То ли скрылась за занавеской, притаилась, отбив свои крылья о прозрачную преграду. Или, может, пригрезилась, как тончайшее наваждение. Стекло было пустым, за ним белел сад, и не было в нем садовника в чалме и накидке, не было бархатных роз, не было бабочки.
– По разведданным, в первые дни года Амин готовит переворот! Будут арестованы тысячи членов партии, командиры корпусов и дивизий, советские военные и экономические советники! В стране будет установлена террористическая диктатура! В Кабуле высадятся американские силы быстрого реагирования! В итоге, как мы понимаем, американцы получат в Афганистане военный плацдарм, на котором развернут против Советского Союза ракеты средней дальности. На возвышенностях и на плато установят системы дальней радиолокационной разведки, позволяющие просматривать территорию СССР на глубину до трех тысяч километров, фиксировать испытательные и учебные пуски наших баллистических ракет.
Калмыков искал глазами исчезнувшую бабочку и не мог найти. Сверкала в застывшем фонтане глыба льда. Светились в каменной пепельнице лазуриты и яшмы. Ко Дворцу, к янтарному порталу подкатывала машина кофейного цвета, и из нее выходили величественный хозяин Дворца, женщина в пышных мехах, девочка в распахнутой шубке. Путь, по которому вел генерал, приближался ко Дворцу, к его стройному фасаду.
– Я был у министра в Москве. Есть приказ на уничтожение Амина, на захват Дворца силами вашего батальона. Вам отводится неделя на обдумывание операции, на доклад по захвату объекта.
Генерал умолк. По его лицу побежали морщинки, как трещины по сухой доске, расщепляя лицо на множество мелких щепок, заноз, заусениц. А в нем, Калмыкове, паника, смятение, ужас.
Батальон атакует Дворец. Врытые танки прямой наводкой жгут «бэтээры», отрывают башни, ошметки разорванных тел. Пулеметы косят охрану, и в этой афганской охране Валех, умирая, взмахнул рукой, и на этой руке подарок Калмыкова – часы. Он гонит людей на штурм, поскальзывается на ледяном откосе, а сверху от Дворца тугие секущие трассы, сквозь ветки розовых яблонь.
Он ужаснулся, не понимая задания, ошеломленный его внезапностью. Но сквозь ужас и панику вспомнил, что оно угадывалось, слабо проглядывало еще там, на учебной базе во время бросков по пустыне, и позже, когда грузил батальон в самолеты и летел на пустую луну, и позже, когда входил в Кабул и город расступался своими мечетями, рынками, пропуская боевую колонну, и позже, когда выла метель и валил снегопад, и душа тосковала, стремилась прочь, стиснутая предчувствиями. Он, военный разведчик, привел батальон спецназа в чужую страну, знал, что приказ возможен, удар по Дворцу возможен.
– Кроме того, – продолжал генерал, – готовится восстание здоровых сил партии и армии. Они выйдут из подполья и атакуют министерство информации, министерство внутренних дел, радиокомитет, узлы связи, министерство обороны. Вы должны выделить силы на поддержку восстания, осуществить захват перечисленных объектов.
– Но это невозможно! – вырвалось у Калмыкова, который отметал, отшвыривал саму возможность атаки, вероятность крови и жертв. – Невозможно, товарищ генерал!
– Почему? – спросил генерал, и его вопрос относился не к самой возможности атаки и штурма, а к ответу офицера, не согласного с ним, генералом. – Почему невозможно?
– Не хватит сил батальона! Это верная гибель, вот и все! – путаясь, торопясь, захлебываясь, ненавидя генерала, испытывая отвращение к Татьянушкину, обманувшему его своими голубыми глазами, презирая себя самого, стал объяснять генералу план обороны Дворца, численность гвардии, количество орудийных стволов, невозможность малыми силами атаковать одновременно десятки объектов города, набитого войсками, с танковыми полками в окрестностях, с «коммандос» в Балла-Хис-саре. Это срыв операции, бессмысленные гибель и смерть, безумная затея в центре чужой столицы.
– Батальон спецназа стоит дивизии, – сказал генерал, но в голосе его не было раздражения, а усталость и вялость.
– Товарищ генерал, комбат прав! – вмешался Татьянушкин. – Задача, я подтверждаю, нереальная. Силами батальона город не взять. Надежда на всеобщее восстание партии и армии маловероятна. Мы уже послали доклад по своим каналам. Было бы хорошо, если бы мнение комбата стало известно министру!
Они молча сидели перед низеньким столиком, на котором красовалась драгоценная пепельница, изделие афганского ювелира, и сад сверкал, и не было бабочки, а был мутный дымный вихрь в душе, непонимание себя, бессилие перед грозной, жестокой силой, проложившей след через азиатский город, эту гостиную, его, Калмыкова, душу, в которой смятение и страх.
– Хорошо, – сказал генерал, – я доложу министру и начальнику Генерального штаба. Но вы все равно готовьте план операции, через неделю доложите!
Калмыков выходил из гостиной, в последний раз озираясь, не мелькнет ли на зимнем стекле желтокрылая бабочка.
Весной, в подмосковной деревне, он охотился на вальдшнепов. Нес на плече старенькую «тулку», тряс в кармане двумя отсырелыми патронами. Он не был охотником и шел побродить по вечерним болотам, постоять на сырых озаренных опушках.
Он облюбовал себе место у огромной березы, розовой в последних лучах, среди блеска длинных холодных луж, на краю жирной черно-красной пашни. Стоял среди звуков близкого леса, треска и щебета птиц, слабого хлюпанья и журчания болот. Вдыхал чистейшие ароматы теплой воды, мокрой земли, последних почернелых снегов. Его душа полна ожидания, предчувствия неясной вести, единственного к нему обращенного знака среди множества звучаний и знамений весны.
В елках шумно перелетали дрозды. В прозрачной березе уселась малая птаха, пела, и ей из-за черных резных вершин отзывалась другая. Пашня, масленистая, в красных мазках, шевелилась, взбухала, выдавливалась могучими подземными силами. Опушка мерцала, туманилась. Соки земли проникали в стволы деревьев, испарялись цветным туманом. Фиолетовая палая листва шуршала, ее поднимали, раздвигали проснувшиеся стебли и корни. Лес, поле, небо к чему-то готовились. Словно он, пришедший на опушку, был зван сюда, его поджидали, готовили встречу.
Солнце село. В кронах деревьев стемнело. Оттуда подул холодный темный сквозняк. Но в небе, в прозрачных кронах горела заря, и на веточке крохотная, с алой грудкой, сидела птица, редко и чисто высвистывала.
Пашня потемнела, небо стало каменным и зеленым, и в этой зелени, бледная, прозрачная, словно облако, парила луна.
Он был весь в ожидании. Чувствовал, что-то близится, несется к нему, еще далекое, запредельное, но уже выбравшее его, заметившее его здесь, у пашни, у березы, под тонкой струйкой зари.
Небо густело, земля была темной, погасшей. Пашня угрюмо, едва различимыми глыбами, уходила в сырую даль. Но луна наливалась блеском, начинала сочно мерцать, будто в нее стекались металлические растворы. Среди пустой синевы горела серебряным кругом.
Его душа обращалась к небу, луне, к угасающим утихшим вершинам, к ночным холодным чащобам – с вопросом, с мольбой, с ожиданием чуда. Он не знал ни единой молитвы, но молился земле, и воде, и последним краскам зари, просил послать ему знак, подтвердить, что он замечен, что в грядущей жизни ему уготована особая доля, особая любовь, особый поступок, делающий его навсегда причастным к этой дивной весне, родной природе, первой звезде, похожей на яркую каплю.
Он молился, стоя на холодной земле, среди ночных влажных звезд. Ждал знамения. От березы, по небу, над его головой пролетела птица. Ее длинный клюв, широкие серповидные крылья, гладкое плавное тело. Она вылетела к нему, окруженная светом, как дух вечернего леса, как посланец звезд и луны. Осенила его, оставила на нем незримую мету, подтвердила, он замечен, избран, ему уготована дивная доля.
Он ехал по Кабулу, выруливая среди автомобильных потоков, обшарпанных желто-белых такси, размалеванных грузовых фургонов, моторикш, похожих на расшитые тюбетейки. Улицы кишели толпой. Укутанные в теплые накидки, с торчащими носами и бородами, вышагивали смуглолицые мужчины. Развевая шелковистые паранджи, напоминая разноцветные язычки пламени, двигались женщины. Ребятишки плотно облепили двуколку с красноватыми дровами, толкали ее по проезжей части. В лавках, ужаровень, у хлебных пекарен, перед входом в чайхану клубились люди, множество похожих, созданных по единому образцу и подобию, с гончарно-красными лицами, черными и белыми бородами. И глядя на них, Калмыков пугался – вдруг они угадают его мысли, узнают о полученном приказе. Вмиг загудит, зарычит взбудораженный город, сигналы опасности полетят по перевалам и тропам, вдоль дорог и селений, и несметные скопища охваченных отпором и ненавистью бросятся на него, Калмыкова, и растерзают.
Он боялся думать о приказе генерала, чтобы мысли его не стали известны толпе. Пусть торгуют красной промытой морковью.
Пусть бегут за переполненным, с незакрытыми дверями автобусом.
Пусть раскидывают на прилавках цветное тряпье. Люди сновали и роились, как пчелы у летка, занятые повседневными хлопотами. Но если их потревожить криком и выстрелом, жесткой и злой командой, все их несметные толпища налетят на него и зажалят.
Он катил по Кабулу, дыму и изморози, ужасаясь тому, что придется врываться своим оружием, стреляющими броневиками в людское месиво, вспарывать серый, накрывающий город чехол, выпахивать из него кровавую подкладку.
У госпиталя Калмыков подобрал Расулова. Веселый, самодовольный, с увлажненными, умиленными глазами, он подсел в машину. Ухмылялся в усы, разглаживал их красивую подстриженную щетку.
– Перстенек мой носит!.. Говорю: «Буду приезжать проверять!..» А она: «Приезжай!»
Калмыков испытывал к ротному, счастливому любовнику, сострадание. Его сильное, обласканное женщинами тело будет пробито пулей, станет корчиться на операционном столе. Права была Роза, гарнизонная гадалка, сыпавшая перед ними лакированных королей и валетов, сулившая беду в Большом Доме, в янтарном восточном Дворце.
В казарме он созвал командиров рот, истребовал срочный доклад о состоянии техники и оружия. Накричал на Баранова, узнав, что на стрельбах у «бэтээра» отказал пулемет. Приказал заму по вооружению перебрать и почистить все пулеметы на «бэтээрах» и «боевых машинах десантников».
Вечером он дождался, когда стихнет казарма, угаснут команды, ссоры и смех и множество молодых утомленных людей быстро, почти одновременно уснут. Он лежал в своей комнатушке на дощатом топчане и планировал операцию. Продумывал подходы ко Дворцу, направление атаки, рубеж сосредоточения и развертывания. Просчитывал время, нужное для преодоления откоса под огнем пулеметов. Хитрил, фантазировал, как незаметно прокрасться к танкам, сжечь их из гранатометов. Он выделял две роты для захвата министерства обороны, радиоцентра и министерства внутренних дел. Знал, что эти роты лягут костьми, по их спинам пройдут афганские танки, а отборный полк «коммандос» довершит убийство. Приказ, полученный от советника, был приказом на истребление. Он, комбат, собирал батальон, учил, снаряжал для того, чтобы погубить в бессмысленном скоротечном бою в чужом азиатском городе. Пожары и взрывы в кварталах, копотный дым из Дворца, и по всем площадям и рынкам, у мечетей и глиняных хижин – истерзанные трупы солдат.
Ему было страшно. Его мысли носились над ночным Кабулом, над объектами атак и ударов и бессильно возвращались обратно, в тесную каморку казармы.
Он не обсуждал приказ генерала, не вникал в его политический и военный смысл. Он был офицер, и вся его жизнь и служение состояли в беспрекословном выполнении приказа. Его психология разведчика, его ремесло спецназа побуждали на выполнение любого задания, на следование по любому маршруту, хоть в Африку, хоть в Антарктиду. И мало ли Дворцов на земле, в Париже, в Мадриде, в которые ему прикажут вломиться.
Но здесь, в Кабуле, он ощутил себя обманутым. Его уверяли, что он станет спасать Дворец, станет защищать его вместе с гвардией, вместе с Валехом. Теперь же он должен убить Валеха и разрушить янтарный Дворец.
Он чувствовал свое бессилие, обреченность. Свою неумолимую включенность в жесткий план, где ему уготована беспощадная роль.
Ему вдруг показалась возможной и спасительной мысль – исчезнуть, уклониться от этой роли, навязанной неизвестно кем и за что. Сбросить жесткую неудобную форму, ремни, оружие. Покинуть промозглую казарму и превратиться снова в ребенка, того, который слышал шипение блинчиков на кухне, ждал, когда мама снимет в прихожей шубу, обнимет его холодными пальцами.
И в этой тоске, обреченности вдруг ярко и сочно вспомнил о женщине, которая осталась в Москве. Не вспоминал о ней все недели, но она присутствовала, как жаркая точка под сердцем. И теперь, спасаясь от холода и озноба, он стал раздувать эту малую искру, дышал на нее, чтоб она не погасла, и она разгоралась.
Тот дождливый осенний день. В тусклом музейном зале огненный бег хоровода. Он захвачен этим огнем, помещенный в его пламенный круг. Оглянулся – женщина стоит у окна, смотрит на него неотрывно. Они шли по мокрым бульварам, по прелой листве. Он вспоминал, как выглядел в детстве бульвар, какие гуляли здесь старики.
Забрели в ресторанчик, где собирались художники. Пили вино. Он рассказывал ей, как бегут по осенним степям табуны сайгаков, попадают в фары машин, скачками уносятся вспять. В промокших пальто, с кружащимися от вина головами они оказались в ее маленькой уютной квартирке. Он видел, как сбрасывает она у порога туфли, вставляет узкую стопу в расшитый тапочек. Ему захотелось коснуться ее узкой гибкой щиколотки. Они оказались рядом в сумраке комнат. Она сидела напротив, говорила, тихо смеялась. Он накрыл ее пальцы ладонью. Он помнил, как опадала ее шелестящая блузка, как повела она зябко плечом, как он нес ее на руках, но не помнил, как были они близки. Лежали, касаясь друг друга плечом, и, медленно открывая глаза, он видел, как белеет ее согнутое колено, смутно темнеет на стене акварель.
Калмыков лежал на казарменных досках в морозной ночи. Где-то рядом за снежным бугром, осыпанный звездами, дремал восточный Дворец. А он стремился в Москву, к желанной, к любимой женщине, умолял ее о спасении.