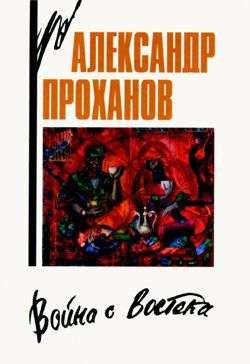Читать книгу Война с Востока. Книга об афганском походе - Александр Проханов - Страница 13
Часть вторая
Глава двенадцатая
ОглавлениеЭто случалось каждый раз в годовщину отцовской смерти, в зимний день домашней печали, когда лицо матери, ее черное платье, вздохи и пришептывания бабушки, фотографии отца в раскрытом альбоме – все было напоминанием об утрате, семейным поминовением, ежегодным трауром, ставшим для него, мальчика, такой же незабываемой датой года, как и его собственное рождение, или новогодняя елка, или майское, из красных флагов и зеленых почек торжество.
На этот раз он уехал в лес на лыжах и носился, одинокий и легкий, по морозным туманным полям. Думал об отце, взлетая на ледяные блестящие холмы, падая в звонкие обжигающие долины, врываясь в хрустящие с красными шишками ельники, и ему все казалось, что отец безымянно, безгласно следит за ним из туманного белого солнца, из морозного запорошенного стожка, из сизой, с черной промоиной лесной речки.
Он выскочил на лесосеку. На поляне дымились костры, валялись распиленные стволы. Лесорубы с сизыми носами, в рукавицах обивали топорами суки. Мелькала сталь, клубился синий смоляной дым, стояли запряженные в сани заиндевелые лошади. Пробегая по поляне, слыша крики, звон, хруст, он вдруг подумал: отец не умер, а где-то здесь, среди этих сильных голосистых людей. Машет топором, дышит паром, смотрит с улыбкой на сына, пробегающего сквозь сиреневый дым.
В маленькой деревеньке, черневшей в сугробах косыми избами, он зашел напиться. Принимая из рук старушки расколотую чашу с водой, оглядывал избу. Примерзший к стеклу цветок, стоптанный половик, седая серебряная икона с раскрашенным яичком и бумажной розой, на лавке – свежеструганая деревяшка, ножик, моток бечевы. И мысль его была: отец не умер, а живет в этой Богом забытой избушке. Это он минуту назад точил деревянный колышек, мотал бечеву. Вот-вот звякнет дверь и отец вернется.
Он бежал по полю, вдоль осинника, по волнистым снегам. Льдисто зеленели стволы, золотились корявые металлические вершины. Внезапно лисица, пышная, красно-белая, с толстым тяжелым хвостом, выскользнула из-за деревьев, встала, приподнявшись на лапах, нацелилась на него заостренной головой.
Их взгляды встретились. Лисий, зелено-желтый, зоркий, веселый, и его, испуганно-радостный, знающий, – это отец, превратившись в лисицу, вышел ему навстречу, заглянул в сыновье лицо веселым звериным оком. Сказал ему – смерти нет, и когда сын пробежит по всем лесам и полянам, пройдет по всем дорогам и тропам, одолеет все пространства и дали, он снова вернется к этим мерзлым осинам, превратится в лисицу, и они, отец и сын, встретятся среди дивной долгожданной зимы.
Охрана Дворца установила на въездах еще несколько постов и шлагбаумов, подогнала грузовики с прожекторами, и ночами вспыхивали ртутные кипящие чаши, голубые струи метались, сливались, озаряли ледяные откосы, яблоневый сад, упирались в далекие горы, в пустые летящие тучи.
Калмыков с биноклем взбирался на холм. Думал, считал, промерял, водил невидимым циркулем, очерчивая Дворец кругами и дугами, доказывал смертельную теорему о штурме Дворца.
Он мысленно делил батальон на несколько неравных частей – штурмовых атакующих групп. Распределял между ними машины, гранатометы, ручные и станковые пулеметы. Одну из групп посылал по серпантину наверх, держа на ладони несуществующий хронометр, следил, как мелькают сквозь кусты боевые машины. Вторую группу, оснащенную штурмовыми лестницами, направлял по ледяному откосу, сквозь яблоневый сад, где блестела наледь. Третья группа уходила в расположение зенитного полка, где в капонирах под маскировочной сеткой укрывались скорострельные установки, способные на сверхплотный заградительный огонь. Четвертая группа, вооруженная гранатометами, направлялась к зарытым танкам. Их следовало сжечь, прежде чем начнется атака. Пятая группа шла в атаку на казарму охраны, где размещались полторы тысячи гвардейцев, ее задача – подкрасться к окнам и забросать охрану гранатами. Шестая группа оставалась в резерве, ее следовало бросить туда, где захлебнется атака. Он сам, в случае неудачи, поведет эту группу, прикроет отход разгромленного окровавленного батальона в горы, в снега, в голые камни, где они смогут еще продержаться несколько часов до рассвета, когда прилетит авиация, подтянутся афганские танки, и никто никогда не узнает, куда бесследно исчез батальон спецназа, отправленный воздухом лунной осенней ночью со специальным заданием.
Калмыков опустил бинокль, смотрел на Дворец, сиявший на снежной горе. Спустился к казарме, где, не знающие о его страхах и замыслах, сновали солдаты.
Он собирался на аэродром. Прибывал борт из Союза, специально для батальона. Доставлял запчасти к «бэтээрам», боекомплект, пиленый лес для обустройства казарм. Машина ждала у КПП, когда внезапно появился Татьянушкин. Он отвел Калмыкова в сторону, подальше от пробегавших солдат, от ротного, распекавшего двух унылых провинившихся прапорщиков.
– Генерал согласился с вашими доводами. Отстучал шифровку министру. Будет подмога. Объекты в городе – не ваше дело. Вам остается Дворец!
– Не знаю, в чьей башке родился план операции! – язвил Калмыков. – То, что я услышал на вилле, – гадость, глупость! Если кому-то нужно уничтожить батальон, пусть так и скажет! Зачем штурмовать объекты? Я выстрою батальон на плацу, и пусть нас расстреляют из пулеметов!
– Я же сказал! – раздраженно перебил Татьянушкин. – Генерал отослал шифровку, и пришел ответ. Будет подмога. Ваше дело – Дворец!
Они стояли на снежной тропке и смотрели один на другого почти враждебно.
– Я буду вместе с вами при штурме объекта, – сказал Татьянушкин. – Мое подразделение пойдет с батальоном. Вы обеспечите доставку к объекту моих людей. Мы войдем во Дворец и все сделаем сами.
Это «все сделаем сами», как понимал Калмыков, было истребление Амина. Батальон обеспечит захват Дворца, а Татьянушкин, поразивший его в Баграме милой родной улыбкой, прикончит Амина.
– Вы умеете это делать? – спросил Калмыков. – Был опыт?
– Я вообще-то ярославский мужик. В деревне скотину гонял, подпаском, – сказал Татьянушкин. – Отец мой был пастух, и дед тоже. Все на одном лужке. А я с того лужка ушел и больше не возвращался. Служил в Африке, Европе, Латинской Америке. А теперь вот здесь оказался. Если отсюда живым выйду, поеду к себе на лужок. Кнутик сплету и буду до конца дней скотину пасти. И ничего мне больше не надо!
Его окаменелое лицо потеплело, заулыбалось. Калмыков подумал: и этот стоящий перед ним человек, как и он сам, Калмыков, жил двумя жизнями. Одной – явной, где готовился штурм Дворца, ожидались смерти и кровь. И другой – неявной, невысказанной, где какой-то лужок, какие-то цветочки. Как и у него, Калмыкова, – в московской комнате женщина с распущенными по спине волосами стоит у окна, смотрит на снежный бульвар.
Они проехали по Дарульамману мимо комплекса министерства обороны, вдруг испугавшего Калмыкова своим объемом, обилием входов, этажей, зелеными, старой конструкции «бэтээрами», похожими на стальные корыта. Миновали советское посольство, откуда дохнули на него язычки чьей-то невидимой жестокой воли. Сделали круг по набережной: лавки были присыпаны снегом, и клубилась косматая черная толпа. Обогнули Дворец Революции с древними пушками, из чьих черных нестреляющих жерл посмотрели на него чьи-то сумрачные неверящие глаза. По прямой помчались в аэропорт – еще один объект для захвата, куда бессонными ночами мысленно направлял роту. Блокировал диспетчерский пункт, взлетные полосы с самолетами, чтоб ни один не взлетел и не сел.
Предъявляя пропуска, миновали посты охранения, выехали к терминалу, где, припав на хвосты, застыли истребители и ленивые солдаты перекатывали железные бочки. Тут же стоял двухмоторный военный транспорт. Под крыльями вытянулась неровная очередь, молодые люди в накидках, шароварах, застывшие, с торчащими на безбородых лицах носами. Тут же прохаживались автоматчики, караулили новобранцев.
В небе было пусто, прозрачно. Высоко, на снежных склонах сияло солнце.
Подкатил лимузин, лакированный, широкий в боках. На радиаторе трепетал американский флажок. С сидений поднялись два молодых человека, один с фотокамерой, другой с пухлым блокнотом. Оба стали заглядывать в блокнот, указывая на соседние терминалы и склады. Что-то сверяли, а может быть, искали.
– Американский атташе по культуре, – сказал Татьянушкин, всматриваясь в номер машины. – С тех пор как здесь застрелили американского посла, резко сократился штат посольства. Эти двое: один – ЦРУ, другой – военная разведка!
Американцы заметили, что за ними наблюдают, переглянулись, помахали им издалека – их неафганским белесым лицам, грубошерстным афганским мундирам.
Калмыков посмотрел на часы, подарок Валеха. В хрустальном стекле пульсировала хрупкая стрелка. Транспорт был на подлете. Калмыкову не терпелось узнать, привез ли он узлы к «бэтээрам», – две машины нуждались в ремонте.
Горы вокруг сияли, раскрывались вверх огромными каменными лепестками. Солдаты катили тяжелые железные бочки. Новобранцы, подобрав накидки, поднимались на борт. Американцы стояли у лимузина с опавшим нарядным флажком.
Калмыков, озирая близкую и дальнюю окрестности, вдруг почувствовал, как что-то меняется. Словно прозрачная тень коснулась снегов. Небо наполнилось мельчайшей вибрацией, сотрясавшей студеный солнечный воздух.
Звук летел из небес, отслаивался, опадал серебристой фольгой, накрывал металлическим куполом аэродромное поле. Глаза, устремленные ввысь, искали источник звука. Находили малые серые точки, распахнутые парящие крестики, издававшие тонкий звон. Их было много, они возникали из синевы. Казалось, напряженные зрачки создают их из собственных мерцаний и слез.
Самолеты появлялись из-за хребта, скользили в пустом, окруженном горами небе, начинали мерно кружить, словно их затягивало, засасывало воздушной воронкой. Снижались по размытой спирали, увеличивались, создавали свое собственное, пронизанное звуком пространство.
Первая машина, четырехмоторный бело-серебряный транспорт, скользнула к земле, оставляя копотный след, с ревом прошла вдоль лысых склонов, развернулась на дальнем крае долины, устремилась на посадку, отягченная, растопырив закрылки, в жужжащем кружении моторов, нацелилась лапами в землю. Хватанула бетон, набежала с жужжанием и воем, шевеля перепонками, замедляя бег, пронося над бетоном переполненное рыбье брюхо, в направлении проделанного полета, в изморози неба, в отсветах льда и снега. Самолет катил мимо Калмыкова. В хвосте отворилась щель, отламывалась плита, и пока машина катила, жужжа и вращая винтами, начинали скатываться, рассыпаться темные комочки. Падали, катились, обретали очертания людей. Вскакивали, распрямлялись в беге. Машина по-рыбьи метала икру, из нее тут же выводились мальки. Десантники бежали в бушлатах, касках, с автоматами, с красными разгоряченными лицами. Мчались от самолета, разбивались на малые группы, врассыпную по взлетному полю.
Садилась вторая машина, сливая свой рев с первой. Вдоль белых скал снижалась третья. Самолеты ввинчивались в низину, наполняли ее скрежетом, ревом, зазубренным гулом. Второй самолет опустился в дрожащем стеклянном воздухе, запаянный в жидкое стекло, с размытыми, оплавленными очертаниями. Из черного чрева летели зародыши, касались земли, оплодотворяли ее, и в месте прикосновения вскакивали в рост солдаты. Скачками, в косых прыжках, уклоняясь от секущего ветра, начинали бег, веером, в разные стороны, толкаясь в сухой бетон, краснолицые, в касках, с тусклым светом оружия.
– Подмога! – ликовал Татьянушкин, ярко синея глазами, приземляя ими самолеты. – Вот она, подмога твоя!
Одни самолеты садились, терлись друг о друга боками, другие, облегченные, начинали взлетать, уходили в небо, освобождая место для посадки. Две спирали, ниспадающая и взмывающая, соединились в сложную карусель. По аэродрому уже катили боевые машины, выруливали тяжелые гусеничные самоходки, упруго подпрыгивали легковые машины. Десантники рассыпались во все стороны – к постам охраны, к траншеям с афганскими зенитками, к зданию порта, к диспетчерской, к штырям и чашам антенны.
– Вертикальный охват! – радовался Татьянушкин красоте и мощи десанта. – Вот она, подмога! Как в Чехословакии, точно!
В его ликовании была жестокая ярость.
Калмыков понимал технологию десантирования, военный принцип захвата – движение самолетов, оружия, броски десантных групп. Аэродром захватывался во всех его жизненных центрах, вырывался, выкраивался из территории, подключался к небесной трубе, в которую из-за хребтов взлетали самолеты. Громадная помпа качала из-за гор грозную энергию, и он, Калмыков, был частью этих падающих вихрей металла и звука. Он не был посвящен в причины и истоки событий, не знал их глубинного смысла. Все, что он мог, – это следовать грозной анонимной воле, пригнавшей в Кабул самолеты.
Афганские солдаты, катавшие бочки, ошалело смотрели. Новобранцы у самолета сбились в толпу, их окружали десантники, гнали с бетона. Американцы в длинных пальто, обомлев, наблюдали десант. Один что-то быстро писал в блокнот, задирал голову, словно пересчитывал самолеты, и снова писал. Другой сорвал с груди фотокамеру, жадно, быстро снимал. Пробегавший мимо десантник с хрустом костей и суставов, выбрасывая вперед автомат, выдохнул вместе с паром:
– Нуты, козел, кончай снимать! А то пристрелю!.. Американцы попятились залакированный борт машины, а десантник, увлекая за собой остальных, исчез в ангаре.
Повсюду, на всем пространстве, далеко и близко, двигались машины и люди. Катилась гусеничная техника, качались стволы самоходок. Десантная дивизия закреплялась на плацдарме, топорщила во все стороны жерла. Кабул, клетчатый, глиняный, хрупкий, смотрел бессчетными глазницами своих хижин, мечетей и рынков на явившихся с неба пришельцев.
Несколько давних осенних дней он прожил на Белом море, на Терском берегу, где в рыбачьих тонях, в рубленых белесых избушках старики поморы ловили семгу. Берег, песчаный, с холодным кипящим рассолом, был усыпан бревнами и седыми корягами, с остатками прогнивших ладей, в ржавых якорях и цепях. Казалось, в море потерпела крушение огромная эскадра и остатки мачт и шпангоутов, корабельный мусор и скарб выброшены бурей на берег.
Он бродил среди мокрых песков, спотыкался о прогнившие бревна, набредал на кривые кресты, на старые серые кладбища. Море кидало ему под ноги соленую серую пену, а из туч летел мокрый снег, тонул в воде. Ветер гудел невнятную печальную песню об исчезнувших деревнях, о канувших в море матросах. Былая отшумевшая жизнь оставила после себя гнилое железо и дерево.
Старики в домашних вязаных блузах грелись у печей, кашляли, латали драные сети. Блестела на полу чешуя. Колотился в слепое оконце дождь. Море стучало в деревянные стены, как в бортовину.
Он засыпал в ночи, слушая близкое море, думал об исчезнувших жизнях – о румяных невестах, о шумных свадьбах, о корабельщиках на еловых ладьях.
Утро было хмурое, в моросящем дожде. Тусклый блестящий отлив омывал черный карбас, залипший в песок. Старики в брезентовых робах, в резиновых сапогах, подкладывали под карбас катки, сипя и кашляя, налегали на борт, сдвигали к воде тяжелую мокрую лодку. Сели, медленно оттолкнулись шестами, заколотили, зашлепали длинными веслами. Направили карбас в крутящуюся рябую волну.
Дрожащая череда поплавков. Багром – за капроновый жгут. В шесть рук, перебирая красными кулаками, тянут со дна канат. Хлюп ячеи, потоки холодной воды. Повисла, стекая капелью, сочная морская звезда. Прилипла к борту глянцевитая скользкая водоросль.
Лодка танцует в волнах. Он тянет сеть, хрипит со всеми, отдирает от морского дна невидимую тяжесть, выкатывает из вод огромные деревянные обручи. И вдруг среди тусклых волн, под низкими снежными тучами, возникает сияние. Будто из бездны под лодкой разгорается свет, подымается столб серебра, изливается из воды потоком дивных лучей.
Вода кипит, взбухает тяжелым огнем. Словно из моря встало пернатое диво, достало головой до туч, распустило по окрестности крылья света. И он сам, стоящий в лодке, вырос до неба. Глаза его расширились, будто в них вставили чаши света. Грудь наполнилась мощью, ноги уперлись в морское дно, а голова увидела солнце. В ясновидении он вдруг понял устройство мира, ход небесных светил, движение подводных течений. Ему открылась чудная истина – смерти нет, а есть бесконечная жизнь, и в этой жизни никуда не исчезли, а гудят все свадьбы, скачут все кони, целуются женихи и невесты.
Это длилось мгновение и кончилось. Он выпал из неба. Стоял в пляшущей лодке. Рыбаки вынимали из сетей тяжелых серебряных рыбин, они бились в днище, сбрасывали слизь и молоку. Старики глушили их деревянными колотушками, пока из-под жабер не выступала алая кровь.
Ночью Калмыкова стал бить озноб. Он кутался, поджимал колени, набрасывал поверх одеяла комья одежды. Утром, одолев недуг, встал вместе с казармой, вышел на развод. Строго поговорил с командиром четвертой роты Беляевым, направил его прапорщиков и механиков-водителей на ремонт «бэтээров». И снова почувствовал слабость, ушел в свой закут за брезентовый полог. Прилег не раздеваясь и задремал.
Ему снова приснилась желанная женщина в ее маленькой московской квартире. Они стоят у ночного окна. На белом бульваре новогодняя елка, разноцветные мигания и вспышки. Он касается ее голым плечом, она медленно к нему поворачивается, ее теплые груди давят ему на грудь. Он чувствует гладкое скольжение ее колен, и такая сладость и мука, такой ослепительный блеск.
Он проснулся от криков в казарме. Сбрасывая незавершенное видение, возвращаясь в озноб, в явь, в крики, он нырнул под брезентовый полог, вышел в длинное, с ревущей печуркой, пространство. Солдаты ругались, держали за руки худосочного полураздетого парня. Ротный Расулов схватил его за подбородок, тряс, ломал ему челюсть, приговаривая:
– Ах ты, скот!.. Ах ты, сука вонючая!.. Падла паршивая!.. Калмыков перехватил руку Расулова, отодрал ее от трясущегося, безумного, с блуждающими глазами лица.
– Отставить!.. В чем дело, капитан?
– Амиров, тварь такая, ящик сгущенки на кухне спер, толкнул афганцам! А те ему наркотик насыпали!.. Он, тварь, накурился, полез в оружейную комнату за автоматом! Старшина его перехватил, свинью вонючую!..
Солдат водил красными белками, безумно улыбался, на его вялых губах пенилась, стекала зеленоватая жижа. Комбат вспомнил, что уже видел эту пену на тех же губах, – в марш-броске рухнул солдат, лежал на соляной корке, сучил ногами, и из полуоткрытого рта текла ядовитая зеленая гуща.
– Он в оружейку прокрался, автомат спер!.. Тут его старшина прихватил!.. Что он с автоматом надумал, наркоман проклятый!..
Расулов порывался снова вцепиться в белое, без кровинки лицо, на котором слепо двигались красные выпученные белки. А в нем, Калмыкове, – душная ненависть к солдату, к Расулову, к себе самому, больному, дряблому, сомневающемуся в то время, когда необходима жестокая воля, умная энергия, хитрость, направленные на близкое, неизбежное дело.
– За ротой кто смотрит? – заорал он на Расулова. – К бабе ездишь! За солдатами кто будет смотреть?… Под трибунал!.. Эту гниду на цепь!.. Клизму ему!.. Водой ледяной!.. Первым же рейсом в Союз, в штрафбат!..
И пошел, ненавидя, пережигая в себе болезнь, мучительные, разрушавшие его колебания. К казарме подкатывала знакомая «тойота» Татьянушкина. В ней было битком, на переднем и заднем сиденьях. Татьянушкин, выходя из машины, что-то втолковывал спутникам.
– Есть срочное дело! – обратился он к Калмыкову. – Из аэропорта доставить спецгруз. Берите три грузовика и охрану! – Лицо его было озабоченное и насупленное. Было видно, что он нервничает.
Они выехали с тремя грузовиками вслед за Татьянушкиным. Калмыков сел в первую кабину, в две другие посадил Баранова и Грязнова. Под брезентом на лавках поместились автоматчики. Калмыков не спрашивал Татьянушкина, что за груз и куда его надо доставить. Подчинялся не столько приказу полковника, сколько утвердившейся в нем напряженной угрюмой воле. Сидел в кабине, глядя, как накатывается скользкая, липкая Дарульамман, мелькают велосипедисты в длинных балахонах и чалмах, похожих на рыхлые подушки.
Они подъехали к аэродрому. На подъездах, где еще недавно дежурили афганские посты, лениво поднимали шлагбаум горбоносые, лиловые от холода солдаты, теперь стояли десантники в плотных теплых бушлатах, розоволицый, с золотистыми усиками сержант проверял документы, а из грязного проулка выглядывала могучая пушка гусеничной самоходки, обнюхивала подъезжавшие машины.
Они выкатили на взлетное поле, на котором стояли под разгрузкой транспорты. Из них осторожно съезжали зеленые фургоны, радиостанции, тягачи – снаряжение десантировавшейся накануне дивизии.
У дальнего терминала застыл самолет с обвисшими лопастями. Под крыльями расхаживали часовые – вскинули автоматы, когда грузовики и «тойота» подкатили к хвосту со звездой.
Из самолета по трапу спустился человек в невоенной кожанке. Они переговорили с Татьянушкиным, поднялись на борт, исчезли в овальном проеме.
Калмыков наблюдал, как топчутся под крыльями часовые, как ползает по далекой горе пятно солнца. Его мучил озноб, он старался вернуть недавнее ощущение сна, прикосновение женской теплой груди, скольжение щекочущих тонких волос.
Татьянушкин спустился по трапу, поманил его. Из теплой кабины, ежась, он вышел на ветряной холод.
– Я вам должен сообщить о характере груза. – Татьянушкин, поддев его локоть, отвел Калмыкова в сторону, под плоскость крыла. – Это люди. Большие люди. Из афганского руководства. Мы их спасли от репрессий, прятали у себя в Союзе. А теперь возвращаем в страну. После свержения Амина они будут управлять государством.
Белое зимнее солнце ползло по склону горы к серой вершине, где голо стыли колючие камни. Калмыков представил, как пусто и жутко в этих солнечных бесснежных камнях, и новая волна озноба пробежала по его мускулам.
– Доставите их на виллу, – продолжал Татьянушкин. – Будете проходить афганские посты. Если начнут задерживать – прорывайтесь! Если остановят и начнут досмотр – груз уничтожить.
В последних словах Татьянушкина была жестокость и злоба – к тем, кого, как груз, привезли в самолетах, но ради которых они, Калмыков и Татьянушкин, должны были жертвовать жизнями.
Калмыков вызвал из кабин ротных, повторил приказ Татьянушкина. Грязнов, выслушав, сплюнул, тронул автоматное дуло. Баранов часто задышал, выдувая сизые струйки пара, и рука его, задрожав, ощупала цевье «Калашникова».
Они поднялись на борт самолета. В сумрачном фюзеляже валялись комья брезента, громоздились зарядные ящики, свитки стального троса, мятые алюминиевые баки. Поодаль высилось несколько дощатых невысоких контейнеров с маркировкой, с ручками, как у носилок. Войдя в нутро самолета, Калмыков мгновенно углядел эти контейнеры, понял, что это и есть спецгруз.
Сквозь крашеные маркированные стенки угадывалась притаившаяся чуткая жизнь. Те, невидимые, скрытые в контейнерах, слышали его появление, его шаги по клепаному самолетному днищу, его дыхание, кашель. Были в полной от него зависимости, боялись, доверяли бессловесно, безгласно умоляли не чинить им вреда.
Калмыков, не приближаясь к контейнерам, вслушивался в их молчание. Подумал: так, самолетами, из одного заповедника в другой, перевозят животных, редкую исчезающую породу, которую надлежит размножить.
– Сейчас аппарель опустят, и их аккуратненько в грузовики! – Татьянушкин был похож на товароведа, принимающего ценный товар. – И вот это добро захватите! – Он кивнул на прикрытые брезентом бруски. Калмыков распознал в них заводскую тару для хранения стрелкового оружия.
Корма самолета медленно раскупоривалась, увеличивалась белизна света с далекой льдистой горы. Грузовики, пятясь, подъезжали под киль. Солдаты, стуча сапогами, поднимались на борт.
– А ну, сынки, давай берись! Аккуратней, аккуратней, а то разобьете! – понукал их Татьянушкин, ставя у каждого контейнера по четыре солдата. Калмыков, приблизившись, разглядел в деревянных стенках среди цифр и букв маркировки просверленные дырочки. Подумал: в случае остановки и стычки с дозором он, Калмыков, хлестнет из автомата по этим фанерным стенкам, пропустит сквозь контейнеры сверху вниз и крест-накрест разящие очереди.
– Аккуратно!.. Пошли!.. – командовал Татьянушкин.
Солдаты подняли носилки, спускались на землю, грузили ношу под брезент кузова. Их было шесть, этих деревянных ловушек, в которых скрывались медведи, олени и лисы.
Они ехали по Кабулу колонной. Впереди Татьянушкин с помощниками, которые так и не вышли из машины. С теми, у кого на коленях, чуть прикрытые куртками, лежали короткоствольные автоматы. За ними – три тяжелых, пузырящихся брезентом грузовика, в чьих кузовах, окруженные солдатами, стояли деревянные клетки. Калмыков сидел в передней кабине, придерживая у ноги автомат.
Они двигались по городу, но не главными улицами, где клубилась толпа и сновали велосипедисты и рикши, а окольным путем, где в липких, грязных проулках гнездились бедные лавчонки и за ними, как термитники, возвышались глиняные бессчетные хижины.
Их остановили в узкой улочке, вдоль которой тянулись жестяные мастерские, ремесленники в фартуках гнули листы жести, колотили по ним молотками, паяли, лудили, выставляя тут же для продажи корыта, тазы, железные, с гнутыми спинками кровати.
Офицер с кокардой, с раздраженным лицом, в сопровождении четырех автоматчиков остановил их взмахом руки, закрывая проезд. Калмыков, озирая проулок, углядел впереди за поворотом заслоненный лавками зеленый транспортер допотопной конструкции, похожий на открытый гроб, с пулеметом и мерзнувшими солдатами. Прорыв впереди был невозможен. Развернуться и уйти нельзя из-за тесноты проулка. Оставалось направить грузовики сквозь строения, разбрасывая тазы и ремесленников, уходить соседними улицами, отстреливаясь от погони. Он смотрел на афганский патруль, лбом сквозь ветровое стекло чувствуя удар грузовика о глинобитную стену построек.
Офицер зло, раздраженно приказывал, махал рукой. Из «тойоты» навстречу ему вышли Татьянушкин и молодой человек, упругий и мягкий, готовый к рывку и прыжку. Они что-то втолковывали офицеру, показывали пропуск. Татьянушкин кивал, соглашался, дружелюбно похлопывал офицера по плечу, но тот зло, недоверчиво косился на грузовик, вытягивая шею, заглядывал в кабину.
Калмыков держал руку на автомате, готовый вскинуть его вверх, перехватывая, рубя сквозь стекло по тощей фигуре офицера, по его кокарде, по раздраженному, злому лицу.
Кокарда на офицерской фуражке горела, как маленький уголь. Калмыков, готовый стрелять, вдруг остро ощутил, что в эту минуту он сам, и его солдаты, и раздраженный афганский офицер, и те неведомые, притихшие в деревянных контейнерах – все они зависят от воли и замысла того, неведомого, кто невидимо присутствует в этом грязном проулке, ведет их по зимнему Кабулу, держит его палец на спусковом крючке автомата.
Эта зависимость от невидимой, управляющей ими силы, от недоступного пониманию замысла, готового столкнуть их в скоротечном кровавом бою, поразила Калмыкова. Он чувствовал, как утончается пленка пространства и времени, отделяющая их от смерти.
Офицер заглянул в кабину, вытянув плохо выбритую прыщавую шею. Двинулся дальше к кузову, чтобы осмотреть груз. Но замер, остановленный кем-то невидимым, и повернул обратно. Татьянушкин и его спутник уселись обратно в «тойоту». Колонна двинулась дальше мимо транспортера с зябкими солдатами, мимо ремесленных мастерских и лавчонок.
Они подъехали к вилле. Грузовики пятились, закрывали торцами ворота. Солдаты сгружали контейнеры, ставили их в ряд во дворе. Когда двор опустел и закрылись ворота, Татьянушкин подошел к контейнерам, отстегнул на них металлические замки, и из деревянных ловушек неуверенно, робко, щурясь от света, расправляя затекшие члены, стали выходить люди. Небритые, в мятых одеждах, с поднятыми воротниками пальто. Татьянушкин трогал каждого за рукав, словно пересчитывал, направлял к дверям виллы. Они прошли гуськом и скрылись.
Калмыков заглянул в опустевший контейнер. В нем была дощатая скамья, светлели просверленные дырочки, валялся на полу оброненный платок.
Вновь появились солдаты, несли длинные тяжелые ящики, сносили их в подвал по узкой, ведущей из сада лестнице. Калмыков спустился в подвал. Среди бетонных стен, под тусклыми решетчатыми светильниками стояли верстаки, и на них рядами лежали автоматы, заряженные магазины, вскрытые цинки с медно-красными патронами. Молодые парни из числа обитателей виллы клещами вскрывали ящики, извлекали промасленные глянцевитые автоматы, нежно тряпкой снимали жир. Татьянушкин смел в ладонь рассыпанную горстку патронов, всыпал их обратно в цинк.
– Арсенал! – хмыкнул Калмыков. – Мотострелковый батальон обеспечен.
– Когда будем брать Дворец, сюда придут афганцы-подпольщики. Мы будем кончать Амина, а они возьмут под контроль улицы. Это будет народное восстание. Те, кого мы сейчас привезли, возглавят восстание. Об этом напишут газеты. Вот мы и работаем, чтобы им было о чем написать!
Глядя на верстаки, заваленные оружием, Калмыков представил, как в верхних комнатах сидят усталые, в мятых одеждах люди, пьют из пиалок чай и один из них роется в кармане, ищет и не может найти платок.