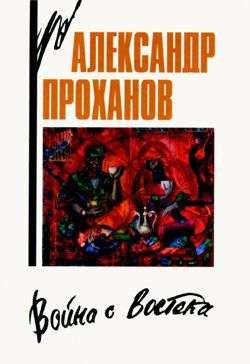Читать книгу Война с Востока. Книга об афганском походе - Александр Проханов - Страница 14
Часть вторая
Глава тринадцатая
ОглавлениеОднажды он наблюдал затмение солнца. Поднялся до восхода на гору, на холодное сухое жнивье. Смотрел, как медленно, багрово растет заря, клубятся малиновые тучи, валит пар из близкого озера. Красная, стоит колокольня, краснея, словно напоенная кровью, торчит по полю стерня. Деревня, косые избы, глинистый путь – все было красное, налитое, в ожидании беды.
Солнце взошло медленно, тяжело, вывалилось, как кровавое, в жидкой оболочке яйцо. Ветер, летящий от солнца, был ледяным, и он стоял, замерзая, в багровом сумрачном свете среди умирающих трав и последних осенних соцветий.
Солнце стало гаснуть, чернеть. Его край выедался, выгрызался. На мир ложилась тусклая дымная тень. Он чувствовал, как разум его ужаснулся, его коснулось безумие. Хотелось бежать, укрыться от ветра, от дымного тусклого света. Стерня почернела, словно ее сжег невидимый пал. Туман над озером стал черно-красным, и над избами, над лесом, над старой без креста колокольней поднялись птицы. Они вылетали растерзанными зыбкими стаями и без крика, подхваченные ветром, носились в черно-красном угрюмом небе, в котором гасло солнце и начиналась вечная ночь, прекращался свет, тепло навсегда покидало землю.
По стерне шурша бежали испуганные мыши. Промчались два зайца. Черно-красная, с дымящейся шерстью лиса. Поднялась и вяло летала бабочка-белянка, в свете пожара казавшаяся лоскутом кумача.
Он погружался в безумие. Ему тоже хотелось бежать, спасаться, прибиться к зверям, греться их живым теплом, слышать и чувствовать их живое дыхание. Ужас, который был в нем, был древний, от угасающих звезд и светил, от черного солнца, из которого проливалась тяжелая тьма.
Кончался свет, кислород земли, сама земная жизнь. По всем горизонтам и далям горели города и деревни, бежали по дорогам полуголые люди, уносили скарб и детей, а их догоняла, гнула, валила тьма.
«Тьму небесную» – вот что он видел тогда, стоя на горе. Эта тьма была простым отсутствием света. Она была антисветом, самостоятельной силой и сущностью. Присутствовала в мироздании, таилась в его собственном сердце и разуме. В минуты помрачения изливалась наружу.
Черно-красное, изъеденное ржавчиной солнце. Вялая бабочка, летящая над красной стерней.
Через несколько дней на вилле Калмыков докладывал главному военному советнику план операции. Генерал замкнуто слушал. Его подвижные морщины остановились, словно заснули. В лице проступило истинное выражение – придирчивого внимания, брюзгливого недоверия.
Калмыков докладывал о составе групп, о направлении и объектах атаки, о секторах огня и прикрытия, о предполагаемых вводных. Татьянушкин, уже знакомый с планом, бесстрастно слушал, вертел на столе разноцветную каменную пепельницу, предоставляя генералу самому оценить план, согласиться или отвергнуть.
– Добро, – сказал генерал. Складки его лица, смуглые морщины и трещины зашевелились, спутали, замаскировали истинное выражение. – Как видите, ваши прежние возражения были учтены. Я их довел до сведения министра обороны и начальника Генерального штаба. К нам пришло подкрепление. Объекты в городе, блокады аэродрома, путей подхода к Кабулу, нейтрализация гарнизона – все это на плечах десантников. Ваш – основной объект. План одобряю в целом. Он нуждается в некоторых уточнениях. Но об этом потом. Основные позывные и коды для радиосвязи: Дворец – «Дуб». Амин – «Главный». Вы – «Ракита». Я – «Кора». В целом ваш план совпадает с нашими представлениями и расчетами!
– Разрешите вопрос, товарищ генерал! – Калмыков собирался задать вопрос, беспокоивший его все это время. – Какова уверенность, что в момент штурма «Главный» будет находиться на месте? Дворец может оказаться пустым.
Генерал посмотрел на Татьянушкина. В его лице появилось прежнее брюзгливое недоверие. Татьянушкин поставил каменную наборную пепельницу с кусочками лазурита и яшмы. Сказал:
– «Главный» останется в этот день во Дворце. Об этом позаботится доктор Николай Николаевич. Быть может, когда мы займем Дворец, Амин уже будет мертв. Нам с ним не придется возиться.
Калмыков пережил тонкое прозрение: сутулый долгоносый доктор, похожий на деревянную птицу, здесь, на вилле, получил коробочку яда. Уколом шприца введет его в кровь человека, и тот умрет. Доктор, горюющий по умершей собаке, по цветущим лугам и поймам, отыскивающий разгадку Вселенной, введет человеку в кровь каплю бесцветного яда, и человек исчезнет. И вся разгадка Вселенной – в действии тонких ядов, убивающих людей и животных, государства и страны, планеты и луны. И у всех за спиной – печальный отравитель, мешающий яд в целебное зелье.
Ему было худо. Им всем, здесь сидящим, была поставлена задача: взламывать границы, врываться во дворцы, проникать в секретные центры, подслушивать разговоры, сыпать отравы. История, состоящая из войн, революций, выражалась в невидимых миру усилиях разведки. Он, Калмыков, был в жестком клубке этих схваток. Сидел, угнетенный, потухший, думал о докторе-отравителе.
Генерал заметил его состояние:
– Понимаю, вы переживаете. Мы все переживаем, я – тоже! Нас готовили к войне, к крови, но теоретически, в академиях, в училищах. Мои товарищи дослужились до больших звезд, а пороху толком не нюхали. А тут, что скрывать, будут убийства, война. Придется себя подготовить!
Калмыков его слушал. Видел печальное долгоносое лицо, маленькие сжатые губы, коробочку с ядовитыми ампулами. В душе было пусто, тускло.
– Амина жалеть не надо! Палач, гад, мерзавец! Собрал на мирные переговоры старейшин хазарейских племен. Съехались в его шатер, в его ставку, двести человек. Он поставил перед ними блюда плова, жареную баранину, а когда те стали есть, велел открыть по ним огонь из пулемета. Также поступил со своими товарищами по партии – тысячи арестованы, замучены, расстреляны! Пока мы с вами здесь разговариваем, в Пули-Чархи кому-то ломают кости, кого-то жгут каленым железом, кого-то пытают током, завернув в мокрую простыню. Также он поступит и с нами в день переворота – арестует, перестреляет, возьмет в заложники! Его надо убить, раздавить, как гадину! Не надо его жалеть!
Сквозь приоткрытую дверь гостиной была видна лестница, ведущая наверх, двери на втором этаже. Одна дверь растворилась, появился худой осторожный человек с очень смуглым горбоносым лицом, бесшумно прошел и скрылся в соседней комнате.
Там, наверху, жили люди, тайно привезенные в город, терпеливо ожидавшие грозного часа, когда Калмыков начнет штурмовать Дворец. Если Дворец падет и хозяин Дворца умрет, к этим тихим людям перейдет вся власть в государстве. Эти тайно привезенные люди станут править страной и народом. Но если штурм не удастся, если танки прямой наводкой расстреляют идущую цепь, если сгорят от гранат атакующие по серпантину машины и хозяин Дворца уцелеет, то эти люди исчезнут бесследно. Никто никогда не услышит о их проживании на вилле. И они это сами знают.
– Позывные я вам сообщил, – сказал генерал. – Время «Ч» – двадцать седьмое декабря, восемнадцать часов. Можете довести до командиров рот. Начинайте рекогносцировку. Проработка операции на вас и на полковнике Татьянушкине.
Генерал поднялся, сухощавый, с тренированными суставами рук и ног. Простился и вышел, и его унесла тяжелая машина.
А у Калмыкова угрюмое упрямое знание: с этой минуты ему надлежит забыть и отбросить все, что мешает исполнению приказа. Все недавние разбегавшиеся чувства и мысли, все сомнения и страхи будут отринуты, и их заменит единственное устремление, от казармы ко Дворцу, по пути атаки.
Он шел к машине, уже встраивая себя в эту грозную линию, устраняя из поля зрения новогоднюю елку на снежном бульваре, женщину у голубого окна.
Тот давний июльский полдень. Он разделся донага в прибрежных зарослях, уплыл на середину озера и плавал там в теплой мягкой воде. Зелено-голубая, в цветах, возносилась гора. Красная кирпичная колокольня, седые избы деревни были окружены туманом цветочной пыльцы. Над озером, белое, высокое, застыло облако.
По горе по тропке спускалась женщина в белой косынке. Плавая среди мягкой воды, он видел у самых глаз блеклый опавший листочек, стрекозиное крылышко, испытывал сладость от своей безымянности, затерянности в любимых летних пространствах.
Он был лишен своего обличья и имени, растворился в небе и озере, стал горой, цветами, бело-стеклянным облаком, далекой избой, где, невидимые, любимые, жили мама и бабушка. Он знал, что никуда не исчезнет, будет вовеки здесь, на родимой земле. Будет всегда возрождаться, создаваться вновь из теплой зеленоватой воды, из стрекозиного крылышка, из белой женской косынки. Под другим именем, в ином обличье станет смотреть на эту ширь и красу, молиться бессловесной счастливой молитвой.
Из белой тучи посыпался мелкий дождик. Он плыл под дождем, подставляя губы под блестящие холодные капли.
Солдаты на кухне кипятили котлы – таскали ведрами воду, жгли солярку, рубили на плахе бело-розовую баранью тушу. Другие мыли и чистили лук, картошку, морковь. Мелькали черпаки, белые поварские фартуки. Там, где готовили яства, царило возбуждение, гогот, согласованная веселая работа.
А рядом, на пустом заснеженном пятачке, куда Калмыков вызвал ротных и начальника штаба, было ветрено, снег блестел под ногами, и было чувство, что он, Калмыков, владевший жестоким замыслом, отдален от остальных непроницаемой мембраной. Скрываемый замысел давит на эту мембрану, выгибает ее и ломает.
– Прошу вас реагировать спокойно и правильно, – начал Калмыков. – С тех пор как мы заступили на охрану объекта, обстановка в корне изменилась. Возникла прямая угроза внутреннего переворота в Афганистане. Началось истребление лучших сил партии, друзей СССР. Амин вступил в прямой сговор с Пакистаном и Америкой. Возможна высадка в Афганистане подразделений американской армии. В этой связи функция батальона меняется. Нам приказано осуществить операцию по захвату Дворца, ликвидировать Амина. Сейчас я доведу до вас план операции. Прошу обдумать его, внести свои замечания и предложения. Начало операции – двадцать седьмое декабря, в восемнадцать ноль-ноль!
Пока говорил, чувствовал, как мембрана в груди медленно открывается, напор угрюмых сил ослабевает в нем, наваливается на стоящих перед ним. Эти пятеро, мгновение назад легкомысленные, неведающие, тяжелеют, сгибаются, обремененные знанием.
Первым отозвался Грязнов. Насупил косматые рыжие брови, ощерил рот, показав крепкие желтые зубы, выдохнул со свистом пар:
– Здорово получается, по-людски!.. Они нас в дом пустили, а мы их молотками по башке!.. Они нас дом сторожить поставили, а мы их дом грабить!.. Хотя что же, спецназ – дело разбойное! – Зло засмеялся, длинной никотиновой слюной сплюнул сквозь желтые зубы.
Командир второй роты Расулов мигом возбудился, затопотал, затанцевал, ударил по бедрам руками, закрутил во все стороны красивое кошачье лицо.
– Командир, я давно примериваюсь! Как атаковать, знаю! Подстанцию подорвать, прожектора переколотить, и в темноте мы их голыми руками возьмем, гранатами забросаем!.. Я давно говорю, этот Амин сучий на «мерседесе» катает, мясо жрет во Дворце, а народ с голоду мрет, детишки по снегу босиком бегают!.. Что-то не то! Не такая у них революция! – Он вился, топотал, весь в нетерпении, в веселой ярости, гитарист, любовник, стрелок. Его пылкая, требующая сильных впечатлений натура ликовала в предчувствии боя.
Командир третьей роты Баранов побледнел. Тяжело дышал, моргал воловьими влажными глазами.
– Если приказ, то конечно… – говорил он несвязно. – Чем мы хуже других?… У кого была Куба, у кого Чехословакия, у кого остров Даманский. Дядька мой в Испании воевал… Не говоря уж о Великой Отечественной… Американцы повсюду лезут, а нам, что ль, отсиживаться? – Он дышал так глубоко, словно здесь, на чистом белом снегу, среди горного ветра, ему не хватало воздуха.
В то время как Калмыков говорил, командир четвертой роты Беляев смотрел в сторону, тонко, длинно улыбался. И пока говорили остальные, продолжал презрительно улыбаться. Но потом его тонкая длинная улыбочка вдруг превратилась в оскал, в углах растянутых губ закипели пузырьки слюны, и он стал резко выкрикивать:
– Не имеете права!.. Превышение!.. Знал, когда собирались!.. Блатные все улизнули!.. У кого мохнатая лапа!.. У меня желудок болит! Как дураков заманили!.. Прикончат всех, как козлов!..
Он кричал, переходил на визг, брызгал слюной. Два солдата, идущие стороной, несущие на палке дымящий котел, оглянулись на его вопль.
– Кончай! – Грязнов ударил его кулаком под дых, несильно, но так, чтоб заткнуть его крик. Тот умолк, захлебнулся, скорчился от боли, обняв руками место удара. – Не голоси, как баба!
Начальник штаба Файзулин озабоченно, хлопотливо оглядывался, словно уже начинал выполнять приказание. Пересчитывал, собирал все разрозненное, рассыпанное по ложбине хозяйство батальона.
– У нас бронежилетов всего сто штук. Надо решить, кому дать. Калмыков стоял среди своих подчиненных, чувствовал, что тяжесть
замысла, недавно обременявшая его, теперь стала легче. Распределилась среди остальных, обременила их своей ношей.
Солдаты трудились в казарме, в парке, в ружейных комнатах, слаженно, напряженно, охотно. Им сказали, что назавтра учения. Они соскучились по рейдам и марш-броскам, доверчиво и дружно работали, предвкушая завтрашний рывок в окрестные горы, прочь из этого тесного распадка, из надоевших глинобитных казарм.
По приказанию прапорщиков выпиливали из недостроенной кровли длинные волокнистые слеги, мастерили из них штурмовые лестницы. В ружейных комнатах набивали магазины, чистили стволы, сшивали оборванные ремешки и лямки. Обслуживали технику, окатывали водой зеленое железо, протирали ветошью двигатели. Ремонтировали одежду, ваксой жирно чернили высокие афганские краги.
Калмыков обходил казармы, следя за веселой, спорой работой солдат. Замысел, еще им неведомый, уже владел ими, направлял их усилия, выстраивал по отточенной прямой от казармы ко Дворцу по пути атаки.
Через день, все на той же открытой снежной площадке, чтоб никто их не смог подслушать, Калмыков собрал командиров рот и распределил позывные, условился о зрительных, звуковых и радиосигналах, установил количественный состав групп, которые пойдут на танки, на зенитную батарею, на казарму гвардейцев.
К танкам, врытым в пологий склон, вела тропинка. Внизу у подножия горы протекал арык. Через этот арык на гору должен был ворваться «бэтээр».
Пользуясь быстротой и внезапностью, надлежало обезвредить экипажи танкистов, вывести танки из капониров и использовать их для поддержки атаки. В случае неудачи – сжечь танки из гранатометов.
Подстанция с трансформаторами обеспечивала освещение Дворца, питала прожекторные установки. Ее следовало разбить в первые минуты штурма – вырубить электричество, чтобы операция прошла в темноте.
Но главная хитрость состояла в том, чтобы накануне атаки, за полчаса до штурма, пригласить в казарму гвардейцев – Джандата, Валеха, начальника контрразведки, главных командиров охраны. Устроить товарищеский ужин и взять всех в плен. А если будет нужда, то и уничтожить, лишить гвардейцев командования.
Все это довел Калмыков до своих подчиненных. Выслушал их замечания. Отослал назад в роты шлифовать и оттачивать замысел.
Наутро появился Татьянушкин. За его «тойотой» к казармам подкатил грузовик. В кузове валялась рухлядь, поломанные стулья, матрасы, листы отсыревшей фанеры.
– Это зачем? – удивился Калмыков.
– Там человек. Из тех, кого мы завезли на виллу. Поставьте пост. Никого не подпускайте к машине. Завтра, когда все кончится, ему покажут Амина. Он опознает труп. Мы должны быть уверены. Пусть в машину кинут пару одеял, поставят горячий чайник. В случае непредвиденных обстоятельств, мало ли что завтра может случиться, – уничтожить! – Его лицо было спокойным, жестким. Он уже не думал о притаившемся в грузовике человеке, а только о завтрашнем штурме, в котором сам будет участвовать, выполняя главнейший замысел.
– Утром приеду с людьми. Мои люди внедрятся в группы захвата. Ваша задача – доставить нас к объекту, прикрывать продвижение, пока мы не сделаем дело.
– У нас есть бронежилеты, – сказал Калмыков. – Ваши люди их могут надеть.
– Все есть, – ответил Татьянушкин.
Они пожали друг другу руки. Татьянушкин укатил. Калмыков смотрел на грузовик с рухлядью, прислушивался. Из кузова не доносилось ни единого звука, но чувствовалось – там терпеливая безмолвная жизнь, смирившаяся перед грозной высшей волей, готовая к любому для себя исходу.
Вечером после отбоя Калмыков наблюдал, как укладывается казарма. Солдаты снимали мешковатую грубошерстную форму, сбрасывали тяжелые краги. Их голые плечи, бритые головы мелькали в тусклом свете ламп. Худые и крепкотелые, чахлые и налитые силой, с татуировкой и нежными родинками, славяне и азиаты, они не ведали о том, что предстоит им завтра. Не знали, что во многих вонзится острый горячий металл, станет рвать и буравить их кости, жилы и мускулы.
Узбек на худых ногах стаскивал мятый носок, рассматривал свои длинные нечистые пальцы. Плосколицый казах с синей наколкой вяло взбивал подушку. Все они завтра пойдут под пули, станут умирать, убивать. Это он, Калмыков, отнял их у матерей и отцов, навьючил на них патронташи и вещмешки, погрузил в самолеты, привез в чужой азиатский город и завтра кинет их в бой.
Он лежал за брезентовым пологом, удерживая в сознании весь окрестный ландшафт с Дворцом. Следил за выдвижением рот. Притормаживал разогнавшиеся на серпантине машины. Торопил штурмовые группы, бегущие сквозь сад по горе. Открывал огонь из самоходных «Шилок» с фланга по белым колоннам Дворца. Подавлял пулеметные гнезда. Летал, вился, взмывал, как сокол, кружил над Дворцом, озирая картину боя. Пикировал вниз, в открытый люк транспортера, гнал «бэтээр» через рытвины навстречу закрытым танкам.
– Товарищ подполковник!.. Товарищ подполковник!.. – За брезент заглянуло испуганное лицо лейтенанта. – В четвертой роте рядовой Хакимов с гранаты кольцо сорвал!.. Держит!.. Грозит подорваться!..
И пока торопливо натягивал форму, застегивался на бегу, слушал булькающие бестолковые слова лейтенанта, вспомнил: Хакимов, щуплый, тощий, стоит на коленях среди красной глины бруствера, жует липкую грязь, а над ним наклонились глумливые лица мучителей.
Казарма гудела, сгрудилась на одной половине, освободив другую. Под тусклыми лампами валялись скомканные матрасы, гудела форсунками печь. В углу, в рост, на кровати, голоногий, с тонкой воздетой рукой, стоял Хакимов. Бритоголовый, с безумными прыгающими глазами, сжимал в кулаке гранату.
– Хакимов, выйди и кинь ее в снег к едреной матери! – не приказывал, а умолял ротный Беляев из дальнего угла казармы, готовый упасть, распластаться на земляном полу. – Обещаю тебе во всем разобраться, и кто тебя пальцем тронул, того, гада, под трибунал!.. Давай, парень, иди и метни ее в снег!..
Калмыков мгновенным прозрением постиг случившееся. Отчаяние замученного, затравленного, забитого до полусмерти Хакимова, одинокого и безгласного среди веселых, неутомимых мучителей. Пропадая вдали от близких, от матери, братьев, сестер, отделенный от них непреодолимым пространством враждебной земли, сырой глинобитной казармой, непрестанной мукой и пыткой, рванул у гранаты кольцо, – кинет себе под ноги, умирая в клубке огня, разбрасывая по ненавистной казарме вихрь осколков.
Прозревая все это, стиснутый полуголыми солдатами, зная, что завтра будут другие осколки и взрывы, Калмыков пробрался вперед, медленно пересек пустое пространство, мимо солдатских постелей, гудящей печки, и подошел к солдату, чья рука была занесена для броска, а глаза, огромные, белые, сверкали и прыгали:
– Хакимов, это я, Калмыков, комбат!.. Об одном тебя прошу: на минутку успокойся!.. Подумай о своей матери, о братьях!.. Тебе домой возвращаться!.. Минуту пережди, ничего не делай, а дальше все будет нормально!..
Он медленно приближался, уговаривал солдата, видел, как дрожит в стиснутом кулаке округлая стальная картофелина, торчит задранный локоть. Чувствовал, как на шаткой грани колеблется измученная, лишенная опоры душа, не желающая больше жить. Калмыков подходил к солдату, что-то говорил, отвлекал. Уводил от колеблемой грани, удалял от последней, необратимой секунды.
Подошел к кровати, наступил ногой на матрас, ощутил исходящий от солдата запах: ужаса, предсмертного пота. Обнял его за худое плечо. Провел ладонью по острому локтю, к запястью, к стиснутому кулаку. Чувствуя, как пульсируют на тонком запястье жилы, проник своими осторожными сильными пальцами в сплетение его, худых, схвативших гранату. Нащупал влажный лепесток предохранителя. Перехватил в свой кулак гранату. Повернувшись спиной к толпе, сбившейся в дальних углах, понес перед собой гранату, как светильник. Прошел мимо печки, вдоль застывших полуголых солдат.
Вышел в темноту на снег. Двинулся прочь от казармы, хрустя ботинками, вверх по пологому склону. И удалившись на расстояние, когда стих, не стал слышен гул голосов, метнул гранату наверх, чуть пригнувшись, зная, что веер осколков минует его, просвистит над его головой. Увидел красную ранку взрыва. Услышал короткий грохот. Ветер донес теплое зловоние взрывчатки.
Он вернулся в казарму. Сам надел, навьючил на Хакимова одежду. Увел к себе. Тот безвольно, понуро брел, словно потерял все жизненные силы. Калмыков уложил его на свою койку, подоткнул под ноги одеяло, выключил свет.
Снова вышел на снег. Медленно, вдыхая ледяной воздух, зашагал вверх по холму, туда, где на вершине поджидало его видение Дворца. Пока взбирался, чувствовал, как дотягиваются до него через гребень, влекут невидимые силы. Послушно шел, подчиняясь безымянной понуждающей воле.
Вышел на вершину холма и стал. Дворец был окружен туманной кристаллической изморозью. Свет окон расщеплялся на туманные причудливые лучи, сливался в розоватые кольца и нимбы, словно вокруг морозной луны.
Дворец казался огромным небесным светилом, парил над туманным ландшафтом земли. Щупальца света пронизывали атмосферу, слабо отражались на обледенелых склонах, на глянцевитых наледях, достигали зрачков Калмыкова, проникали в глазницы, в кровь, в дыхание, наполняя их таинственными цепенящими ядами. Он стоял, пойманный щупальцами розоватого света.
Ему было странно стоять одному на холме и смотреть на Дворец, который завтра он должен разрушить. В ответ из Дворца полетит в него огонь и железо и, быть может, его завтра убьют.
Но сегодня, живой, дышащий, он стоит среди ночного мира. Во Дворце, не ведающий о своей участи, отдыхает властитель. Золотистая резьба на стойке деревянного бара. Девочка в ночной рубахе перелистывает книгу с картинками. Врач, похожий на дятла, капает в хрустальную рюмочку безвкусное и бесцветное зелье. В казарме забылись солдаты. В ружейных комнатах, в пирамидах, рядами стоят автоматы. В тяжелом грузовике под брезентом притаился безвестный человек, чутко слушает ночь. И все это совершается в единое непрерывное время, которое завтра может для него оборваться. Завтра его могут убить.
Он стоял на холме, овеваемый ветром гор, чувствуя в последнюю ночь перед боем шарообразность Земли, тонкую пленку жизни, в которой он появился на свет, под ней – каменную неживую толщу Земли, над ней – в бесконечном космосе – млечные спирали галактик, хвостатые звезды, туманы иных миров.
Он стоял на вершине, чувствуя под ногами глубинный донный огонь, а над головой удаленные мирозданья. Смотрел на Дворец, который он завтра разрушит.