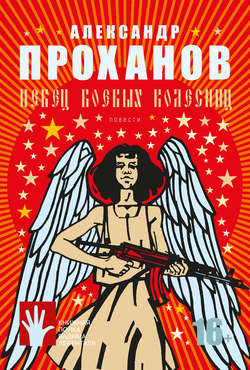Читать книгу Певец боевых колесниц (сборник) - Александр Проханов - Страница 9
Певец боевых колесниц
Глава восьмая
ОглавлениеГорюя, не сдерживая слез, Белосельцев брел куда глаза глядят. Встречные праведники уступали ему дорогу. Девочка, погибшая при пожаре в Кемерово, подошла и подарила ему тряпичную куклу. Две белых цапли следовали за ним в отдалении. А воробьи, они же ангелы, летели над ним, орошая его небесной росой. Но дело, ради которого Белосельцев явился в Царствие, звало его. Он должен был повидаться с Господом Богом, отправившим его на задание в земную жизнь и теперь призвавшим к отчету.
И Господь Бог не замедлил явиться. Это был человек со странным именем Маркиан Степанович, который одно время часто бывал в их доме, тайно влюбленный в маму. Он был русский интеллигент из числа чеховских или бунинских героев, увлекался живописью, был знаком с художниками «Мира искусства», писал акварели, принося их на показ маме, раскладывал на полу, и они с мамой подолгу их рассматривали, находя достоинства, скрытые от глаз Белосельцева. Теперь Маркиан Степанович возник перед Белосельцевым в беседке, в плетеном кресле, со своим сухим долгоносым лицом и бесцветными губами, которые постоянно жевали пустой янтарный мундштук, ибо мама запрещала ему курить в доме. Маркиан Степанович дружески, чуть насмешливо смотрел на Белосельцева, готовясь произнести какую-нибудь свою витиеватую шутку, но Белосельцев, угадав в нем Господа Бога, спросил:
– Господи, могу ли я рассказать тебе о Карабахе, где русский летчик-наемник бомбил армянские позиции в Степанакерте, а другой русский зенитчик сбил его самолет? Раненый пилот приземлился в расположении армян, те запихнули его в огромный баллон от КамАЗа и подожгли. Баллон дымил черной жирной сажей, пока не сгорел, не распался, и в нем чернела груда обгорелых костей. Рассказать ли об этом?
Маркиан Степанович покачал головой, давая понять, что рассказ не занимает его.
– Тогда расскажу, как в Приднестровье мы обшивали стальными плитами КамАЗ, устанавливали на нем пулеметы, и эти железные слоны двигались по улицам Бендер, поливая огнем наступавшие цепи румын. Один из КамАЗов попал под удар гранатомета, и казаку Майбороде оторвало ногу.
– Нет, – произнес Маркиан Степанович, – расскажи лучше о маме.
Что он мог рассказать о маме, если она была самой красотой, самой добротой, самим возвышенным благородством, воздухом, из которого он появился на свет. Как красивы были ее густые каштановые волосы, которые она расчесывала перед зеркалом костяным гребнем, и в зеркале горела короткая сочная радуга. Как чудесно пахли ее духи, и как красиво было ее праздничное голубое платье. Мама была тем хрупким побегом, дотянувшимся из прежней жизни в нынешнюю, в которой родился и рос Белосельцев. Секира, полоснувшая их многолюдный род, пощадила ее. Она подкладывала на стол Белосельцеву подшивку журнала «Весы» со стихами Бальмонта и статьями Флоренского. Она водила его в Большой театр слушать «Пиковую даму». Она возила его в Кусково, Останкино и Мураново, и он запомнил старую церковь, полную душистого сена, в которое он нырял, как в воду. Она учила его языкам. Однажды ночью, когда на стене в зеленом пятне уличного фонаря мотались тени деревьев, она рассказала историю рода, погибшего на этапах, в тюрьмах, сгинувшего в эмиграции, и он узнал о беде, которая заставляла рыдать бабушкиных братьев во время их чаепитий.
Она овдовела в тридцать лет, когда отец добровольцем ушел на фронт и погиб под Сталинградом в штрафном батальоне. До старости, когда упоминали о погибшем отце, у нее начинали дрожать губы и глаза наполнялись слезами, и он боялся говорить об отце, боялся слез, текущих из ее прекрасных серых глаз. Архитектор, она шла вслед за войсками по сожженному Смоленску и проектировала бани и прачечные для оставшихся жителей. Она работала всю жизнь, взращивая сына, не отказывая ему ни в чем, и он помнил ее подарок, великолепный, лазурного цвета велосипед, на котором он катил по влажному голубому асфальту среди редких машин и весенних деревьев.
К старости она ослабела и много лежала. Он незаметно всматривался в ее теплую кофту, боясь, что вдруг не заметит ее дыхания. Она сетовала, что он редко бывает с ней, скучала. Однажды, проходя мимо ее комнаты, он услышал ее неразборчивый бубнящий голос. Это она на память читала вступление к «Медному всаднику». Она чувствовала, что приближается ее конец, и занималась сборами, как собираются в путь. Аккуратно в папки сложила все свои рисунки, собрала все письма и фронтовые треугольники отца. Записала всю историю рода. Однажды он увидел, что она молча сидит на кушетке и лицо у нее торжественное.
– Мама, ты что? – спросил он.
Она ответила:
– А все-таки мы жили в великую эпоху.
Вскоре после этого она крестилась, и Белосельцев остро ощутил, что эпоха кончилась. Когда она умерла ночью и он держал ее остывающую руку, его поразило, что у него с мамой одинаковая форма ногтей, и он сжимал ее холодеющую руку.
Все это Белосельцев рассказал Маркиану Степановичу, а когда кончил, того уже не было. С того места, где тот сидел, медленно удалялась белая цапля, обходя розовые кустики иван-чая.
Белосельцева не удивляла многоликость Божества, которое обретало образ, облегчавший Белосельцеву общение с ним. Если Бог был в купине неопалимой, в падающем, как небесный изумруд, метеоре, с еще большей легкостью он мог предстать перед Белосельцевым в образе дорогих ему людей.
И таким дорогим человеком, что принял образ Божий, был генерал Альберт Михайлович Макашов. Он сидел за дощатым столом, на столе лежало перо кукушки, которая пролетела в безуспешных поисках родного гнезда. Макашов не убирал перо, словно раздумывал, как употребить этот дар небес. Он был в полевой форме, с зелеными генеральскими звездами, в своем черном знаменитом берете, в котором стоял на балконе Дома Советов, когда отдал приказ баррикадникам штурмовать Останкино. Белосельцев смотрел на его спокойное, с крепким носом и сжатыми губами лицо, в котором было знание о поджидавшей их всех судьбе.
– Господи, – произнес Белосельцев, – наконец-то я смогу рассказать Тебе то, что так тщательно сберегал и таил. Когда первые пулеметы ударили по баррикаде и раненые женщины поползли к подъезду Дома Советов, чтобы укрыться от пуль, я уже знал о снайперах, которые разместились на крышах и стали выбивать то защитников Дома Советов, то десантников, скрытых под броней бэтээров. Это меняет представление о всей картине того кровавого дня. Тебе это важно знать?
Макашов чуть мотнул головой, давая понять, что сведения не заинтересовали его.
– Тогда знай, что бэтээры, притаившиеся у стен Останкино, заранее получили приказ стрелять по толпе, и я слышал, как пуля чмокнула в живое тело, а другая глухо ударила в дуб, что рос у останкинской башни. И тот бешеный бэтээр с обезумевшим водителем, что врезался в толпу, я кинул в него пластиковую бутылку с бензином, но промахнулся, и бензин горел на асфальте.
Макашов взял перо, окунул в чернила и на листе мелованной бумаги каллиграфическим почерком написал: «Повесть временных лет». Отложил перо и произнес:
– Расскажи лучше о жене, которая кинулась тебя спасать.
В то утро, когда к Дому Советов потянулся народ и стали строить баррикаду из старой арматуры, истлевших досок, поломанной мебели, Белосельцев тоже отправился к Дому Советов, и два его сына увязались за ним. Он видел, как они, похожие на муравьев, тащат к баррикаде какие-то палки, катят пустые железные бочки, и он испытывал удовлетворение и отцовскую гордость, видя своих сыновей в рядах восставших. Изредка, выходя из Дома Советов, он видел сыновей среди баррикадников, которые играли на гитаре, танцевали, размахивали Андреевским флагом.
Когда формировался Добровольческий полк и в одной шеренге маршировали старики-ветераны, худосочные юнцы, бородатые старцы, он видел, как сыновья, сбиваясь с шага, маршируют и у них на боку висят противогазные сумки. Старший нес имперское черно-золотое знамя. Белосельцев увидел, как наперерез шеренге выбежала жена Вера с иконой в руках, загородила путь марширующим, истошно крича, стала выхватывать из рядов сыновей. А те сердились, отталкивали мать. Ушли вместе с утлой колонной, а жена, простоволосая, безумная, крестила иконой Дом Советов, баррикаду, угол здания, за которым скрылась шеренга.
Через несколько дней, когда грохотали танки и баррикада, разнесенная в щепки, была завалена трупами, жена, обезумев, бегала к месту побоища в поисках сыновей. Дома она стояла на коленях перед иконой и страстным слезным шепотом молилась, и когда под утро один за другим явились домой сыновья, измученные, закопченные, жена целовала их лица, их руки и упала перед иконой без чувств.
С тех пор в ней оборвался какой-то живой стебель, она часто плакала, ездила по монастырям. В ней исчезло то обожание, которое делало ее такой восторженной, светоносной. Такой, которую он так любил с благословенных карельских времен.
Она тяжело умирала. У нее отказывали легкие, она не могла дышать, заходилась странным удушьем. Говорила, что эти мучения даны ей за неотмолимый грех, когда она избавилась от ребенка. В краткие часы, когда ее отпускало удушье, она лежала в беседке среди берез и дремала, а Белосельцев смотрел на ее истощенное любимое лицо и просил Господа взять часть его жизни и передать ей. Чтобы она не уходила, чтобы оставалась лежать в беседке среди ровного шума берез.
Та последняя страшная ночь. Она то заходилась ужасным кашлем, то падала на подушки без сил. Он обнял ее за плечи, усадил на кровати, и она, уже почти лишившись голоса, прощаясь с ним, утешая его, чуть слышно сказала:
– Нам всем предстоит пройти этот путь.
Она легла и больше не поднималась. Протянула ему руки, он взял их в свои, и они прощались. И в этих прощальных пожатиях были все их снега, все серебряные метели, все ласки, все нежные слова и признанья, и она передавала ему все это на сбереженье, на вечную любовь.
Генерал Макашов выслушал его исповедь, пожал ему руку и пошел по колючим травам, которые осыпали его цепкими семенами.