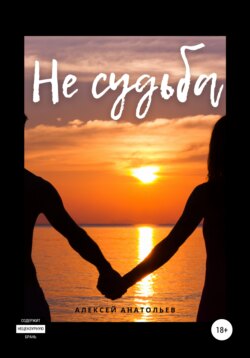Читать книгу Не судьба - Алексей Анатольев - Страница 16
10. Снова в поисках новой жены
История пятая. Интервью у Мавзолея
ОглавлениеНе обошли работу Юры стороной и распри в международном левом движении. Все мы помним, сколько было написано и сказано по поводу никогда в реальной жизни не существовавшего «единства мирового коммунистического движения», в действительности буквально с первых лет образования пресловутого Коминтерна раздираемого склоками и взаимными обидами. Несколько коммунистических партий особо отметились в противостоянии нашей КПСС, тоже не белой и не пушистой.
Разногласия с Коммунистической партией Китая были настолько остры, что скрыть их от мира оказалось невозможным, и градус накала страстей в течение многих лет неуклонно повышался от поначалу вполне корректной полемики после доклада Хрущёва о культе личности на закрытом заседании XX съезда КПСС до ожесточённой ругани на страницах массовых СМИ и телевизионных экранах, и в итоге разногласия переросли в 1969 году в вооружённое столкновение. Поскольку тема эта очень обширна и серьёзна, а связанных с ней документов и различных публикаций великое множество, Автор предпочитает уйти от неё, тем более что сейчас вспоминать о советско-китайском противостоянии вроде как моветон. Мы, мол, стратегические партнёры и в БРИКС, и в ШОС, далее везде. А о прошлом предложено забыть в интересах нашего будущего. Только надолго ли забываем?
Разногласия с коммунистами Западной Европы были по сути чисто теоретические. У нас поругивали еврокоммунизм в лице Марше и Берлингуэра, но на личности предпочитали не переходить, и в основном занимался этим идеологический рупор ЦК журнал «Коммунист», мимикрировавший теперь в «Свободную мысль». В западноевропейских коммунистических, левых и левацких открытых массовых изданиях выражали недовольство по поводу судебных процессов над Даниэлем и Синявским, высылки Солженицына, лишения Вишневской и Ростроповича советского гражданства, что нередко вынуждало наши «компетентные органы» изымать из продажи отдельные номера газет «The Morning Star», «L’Humanité» и «L’Unità», причиняя тем самым вред студентам советских языковых вузов, которые лишались ценных материалов для наращивания словарного запаса. Но кое-какие крамольные номера газет всё же по недосмотру попадали в продажу.
Однажды Юра предложил на занятии по французскому переводу использовать передовую «L’Humanité», озаглавленную «По поводу одного процесса» («A cause d’un procès»), но молодая преподавательница в ужасе заверещала, что не пойдёт на это, а после занятия отчитала Юру за «провокацию». Она была права: он хотел поставить её в неловкое положение, поскольку был на неё обижен. Дело в том, что два года назад они вместе отдыхали в студенческом лагере, где она набралась наглости отказать ему во взаимности, хотя с её стороны были соответствующие неясные намёки. Впоследствии они жили в одном подъезде и, оказываясь вместе в лифте, делали вид, будто незнакомы, но с её мужем Юра всегда здоровался. Свёкор преподавательницы французского был тем самым послом СССР в Нидерландах, которому в первой половине 1960-х дали в морду в аэропорту Амстердама.
Но вернёмся к главной теме. Западноевропейские коммунисты шли на открытые жесты неодобрения политики советского руководства: однажды Марше вместо приветствия на открытии международной встречи демонстративно повернулся к Брежневу спиной и сделал вид, будто не заметил нашего генсека. Однако в целом все эти и подобные жесты напоминали размолвки интеллигентной супружеской пары: оба на склоне лет допёрли, что каждый ошибся в выборе партнёра, но разводиться уже поздно, до рукоприкладства не докатились, и, что самое главное, не позориться же на старости лет.
По-иному выглядят разногласия с Коммунистической партией Японии. Японские коммунисты с 1956 года взяли курс на полную поддержку своих китайских «товарищей». Градус критических высказываний постоянно повышался. С первой половины 1960-х годов он стал открыто враждебным. Печатные органы КПЯ не стеснялись в выражениях, отойдя от присущей японцам невозмутимости и внешней вежливости. Главный орган японских коммунистов ежедневная газета «Акахата» (赤旗) («Красное знамя» по-японски) всячески поливал Хрущёва и за «недостаточное противодействие американскому империализму», и за «приукрашивание империализма» (帝国主義美化), а после подписания договора 1963 года о частичном запрещении ядерных испытаний Хрущёв стал объектом для прямых обвинений в «политике соглашательства с империалистами» (帝国主義者との妥協主義政策) и «оппортунизме» (日和見主義). Именно статьи в этой газетёнке заставили всех студентов-японистов выучить эти термины плюс ещё перевод понятия «великодержавие» (大国主義). Изъятие из газетных киосков «Акахаты» Юрой не было замечено: кому вообще она была нужна? Способных читать по-японски у нас ничтожно мало, и ими можно было смело пренебречь, к великой радости студентов и всех советских японоведов, не заинтересованных в изобилии хорошо подготовленных конкурентов.
Полемика с КПЯ была на удивление односторонней. Если в более-менее вежливой дискуссии с китайскими коммунистами советская сторона допускала даже публикации китайских измышлений на русском языке в газете «Правда», однажды отдавшей целых две полосы составленному в Пекине и распространявшемуся в СССР на русском языке занудному и многословному тексту из 25 тезисов, на который в том же номере газеты был дан столь же многословный ответ, то грубая ругань японских коммунистов совершенно замалчивалась. Более того, вплоть до избрания Горбачёва генсеком полностью скрытой от советской общественности оставалась и позиция КПЯ в известном советско-японском территориальном споре: японская компартия сочла недостаточным официальное требование вернуть Японии острова начиная с Итурупа и южнее до Хоккайдо и заявила, что справедливое решение проблемы видится ей только в возвращении всех Курильских островов!
Такое однобокое освещение сути разногласий между КПСС и КПЯ привело к искажённому представлению в СССР о Японии и японских коммунистах. Кому в СССР это было выгодно? Сложный вопрос, на который у Автора нет ответа.
На фоне разногласий в коммунистическом движении были заметны осторожные и неэффективные усилия советского партийного руководства по их сглаживанию и маскировке. С этой целью советские и японские коммунистические лидеры иногда встречались и вели сложные переговоры, которые, как можно подозревать, сводились к взаимным обвинениям. Поездки в Японию партийных деятелей среднего калибра не дали результатов, и было решено направить в Японию главного партийного идеолога КПСС – Суслова, который, как наивно предполагали в политбюро ЦК, силой убеждения должен был хоть частично подтолкнуть японских коммунистов к смягчению нападок и возврату их в умеренное теоретическое русло. Непонятно только, зачем для этой роли избрали именно Суслова, во-первых, не имевшего опыта самостоятельного переговорщика и редко выезжавшего за рубеж, видимо, по причине слабого здоровья, а во-вторых, едва ли не самого одиозного из всех кремлёвских долгожителей сталинской закалки, даже внешне олицетворявшего застойность, – высокого, тощего, своей потусторонней фигурой напоминавшего сказочного персонажа типа Кощея, упыря или вурдалака, кому что больше нравится. Суслов всегда был подчёркнуто старомодно одет по моде партийной номенклатуры 1950-х годов, когда считалось, что партийный функционер выше каких-то там модных веяний. При малейшем намёке Гидрометцентра на осадки Суслов носил галоши, вызывавшие всеобщее брезгливое удивление. Суслова можно назвать главным партийным тормозом.
Прилетел Суслов в Японию в сопровождении небольшой группы помощников и, разумеется, врача. Его встретил сам посол. Суслов расположился в представительской квартире рядом с квартирой посла. Чтобы попасть в квартиру, надо было подняться на второй этаж по лестнице, видимой из посольского зала приёмов. Работавший тогда в Посольстве Юра хорошо запомнил появление рослой тощей фигуры в старомодном двубортном драповом пальто цвета фиолетовых чернил, каких уже давно никто не носил, кроме глухой провинции, где провинциальные пенсионеры донашивали одежду сыновей, в надвинутой на глаза шляпе, из-под которой выглядывали, пряча глаза, старомодные очки в тонкой оправе. Галоши Юра, честно говоря, в тот раз не заметил. Не поздоровавшись ни с кем и уставившись себе под ноги, Суслов вместе со своей свитой и послом не спеша поднялся по лестнице и надолго исчез из всеобщего поля зрения.
Время от времени в течение нескольких дней Суслов выезжал из посольства на переговоры с японскими коммунистами. Возвращался он обычно поздно вечером.
Однажды в посольстве проходил приём. Один за другим приезжали и уезжали иностранные дипломаты и японцы, были видны нарядные дамы и разнокалиберные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и военные атташе в парадных мундирах. Британские военные щеголяли красными кителями с золотым шитьём, а какой-то военный атташе в расшитом золотом парадном военном мундире чёрного цвета с роскошными эполетами смотрелся неестественно для двадцатого века и потрясающе элегантно (личное мнение Юры, не разделяемое многими). Такие эполеты с бахромой Юра прежде видел только в кино, а тут они вдруг попались ему на глаза в реальной жизни. Юра не мог налюбоваться шикарным видом иностранного военного, и тот это заметил, снисходительно улыбнувшись нашему главному герою. Эпоха ярких военных мундиров быстро уходит в прошлое, поскольку наша эпоха практицизма и внешнего минимализма вступила в противоречие со старой эстетикой красочной военной формы, и хотя нелепые комбинезоны камуфляжной расцветки смотрятся менее зрелищно, зато они идут в ногу со временем. К сожалению, сейчас радующие глаз красивые мундиры можно увидеть только на дипломатических приёмах и во время парадов. Из наблюдения за приглашаемыми на приёмы Юра сделал вывод о том, что наиболее роскошная парадная форма у военных сохранилась в монархических государствах, а также что внешний вид тех персон, которых можно лицезреть на приёмах, вообще бывает очень далёк от реалий нашей обыденной жизни. Достаточно посмотреть фотографии и видеоролики приёмов в Букингэмском и Елисейском дворцах.
В тот вечер одна из уже покидавших приём супружеских пар, явно из Западной Европы, он – в смокинге, она – в красивом вечернем платье с декольте и с роскошным ожерельем на красивой шее, оказалась вынужденной с изумлением посторониться, когда в дверном проёме на них снаружи надвинулась мрачная фигура, не по сезону тепло одетая. На эту фигуру уставились все иностранцы, включая и японцев. Суслов буквально рассёк гостей на приёме и засеменил к лестнице. Поскольку о визите Суслова знал лишь узкий круг лиц, прежде всего посольские, а также японцы из комплекса зданий ЦК КПЯ в Ёёги (代代木町), все стали гадать, кто этот бесцеремонный незнакомец. Сразу заметили, что сотрудники посольства никакого беспокойства при появлении загадочной личности не выразили. Значит, для советского посольства он свой? И этому странному гостю, очевидно, сам посол не указ?! Спросить прямо вслух советских дипломатов о необычном и подчёркнуто замкнутом незнакомце никто из гостей на приёме не решился. Кое-кто, разумеется, был в курсе, ведь постная рожа Суслова была известна всему миру, потому что он неизменно торчал на трибуне Мавзолея во все дни массовых коммунистических торжеств.
На другой день Суслов уехал. Никто его не вспоминал, будто он вообще не приезжал. А потом стало очевиден провал миссии Суслова, поскольку о ней ни слова не сообщила «Правда». В случае успеха наверняка что-нибудь бы напечатали.
Неудача миссии Суслова подтвердилась ещё и тем, что обмен колкостями и упрёками между руководствами двух компартий продолжался. Примерно десять лет спустя, когда Юра уже работал в отделе радиовещания на Японию, была предпринята новая, основательно подготовленная и более открыто обставленная попытка хоть о чём-нибудь договориться на уровне двух главных партийных руководителей. С советской стороны это был уже изрядно выживший из ума и стремительно терявший способность к членораздельной речи генсек Брежнев, с японской – председатель президиума ЦК КПЯ Миямото. Главным переводчиком был опытный специалист по переговорам такого рода, то есть понимавший невнятное бормотание полудохлого генсека и облекавший его в осмысленные фразы заведующий отделом вещания на Японию Гостелерадио СССР Левин – личность крайне неприятная и широко известная в узком кругу специалистов по Японии.
В пятницу второй половины декабря 1979 года, причём ближе к концу рабочего дня, когда Юра уже предвкушал радость двух грядущих выходных и интим на кровати в уютной квартирке Лены, а также в своей квартире с третьей женой, его вызвал в свой кабинет Луговской – начальник выше Левина, отсутствовавшего на основной работе:
– Вам завтра отдыхать не придётся. Срочно получите магнитофон, я распорядился, чтобы специально подобрали получше и в футляре поприличней. Поедете на Красную площадь и запишете интервью Миямото. Это спущено сами понимаете кем и откуда. Левин позвонит Вам домой и продиктует вопрос по-японски. Отнеситесь крайне серьёзно, видите, какое доверие Вам оказывают.
Выходной испорчен, это жаль. Но задание-то почётное, ежу понятно! Вместе с тем таскаться на потеху японцам с жутким допотопным венгерским магнитофоном, конечно, откровенно говоря, стыдно. А других магнитофонов не было. Но если всё удачно сложится, то и на работе рейтинг Юры заметно поползёт вверх, и женское внимание не уйдёт от него. Можно ради всего этого чуть-чуть поднапрячься и убить двух зайцев.
Вечером Левин позвонил Юре по домашнему телефону, и по интонации его, надо признаться, приятного баритонистого голоса Юра мгновенно почувствовал, что тот говорит не из своей квартиры. Он продиктовал вопрос, настаивая на неукоснительном его соблюдении и записи на магнитофон, а затем несколько раз переспросил: «Не опоздаете? Не забудете?». Спросив паспортные данные Юры, Левин ещё раз повторил, что «ожидает достойного выполнения ответственного поручения ЦК нашей родной партии». По последним словам Юра понял, что Левин позвонил ему из комплекса зданий ЦК КПСС на площади рядом с министерством, где работали его отец и Зинаида. Значит, там одобрили его миссию. С одной стороны приятно, что Алексей Иванович и прочие доверяют Юре, с другой – с каким великим наслаждением он бы послал их всех к ….. и плюнул в их рожи!
Юра стал обдумывать, что получается и каков расклад на завтра. Стало ясно, что японских гостей охватило желание прорваться в советский радиоэфир. Гостелерадио, мол, охотно даёт возможность высказаться и японским министрам, и буржуям всяким, и артистам, и заезжим туристам, а вот руководством компартии упорно пренебрегают! Действительно, не было до сих пор такого, чтобы хоть раз давали микрофон японскому коммунистическому функционеру: а вдруг брякнет не то! Конечно, на то и предусмотрена предварительная запись на магнитофон, предполагающая элементарную «работу с ножницами и клеем» (дословный перевод с японского 鋏と糊の仕事), но не всегда такое возможно. На переговорах японцы наверняка что-то наплели насчёт того, что «для повышения авторитета компартии Японии, а также и в качестве показателя действительного улучшения межпартийных отношений будет чрезвычайно полезно, если председатель президиума Миямото скажет пару слов в советской передаче новостей на японском языке». Причём мысль эту донесли до принимающей советской стороны, и в этом самое интересное, через того же Левина, лично отвечающего за радиовещание на Японию! Возразить им было трудно, и Левину теперь приходится выкручиваться, то есть организовывать интервью, которое, может быть, поручил ему чуть ли не сам бровастый и беззубый генсек, если тот вообще ещё способен вникнуть в ситуацию без подсказки. По сути, Юрин начальник взял на себя ответственность перед высшим руководителем партии и страны, причём в присутствии и наших весьма неприятных, но облечённых властью прихлебателей из международного отдела ЦК, а также зловредных японских коммунистов, а затем переложил значительную долю ответственности на Юру как на непосредственного исполнителя. Так что же ждёт Юру завтра? Лавры победителя или синяки побеждённого?
Где записать интервью? И это, если пошевелить мозгами, понятно. Никоим образом не в гостевом доме ЦК, где расположился на время визита Миямото. В тепле и уюте наговорит с три короба, а ведь вполне вероятно, что принимающей стороне пришлось взять обязательство передать в прямой эфир всё сказанного вредным Миямото, то есть может оказаться так, что кромсать плёнку ножницами не представится возможным. Но даже если такой договорённости нет, нельзя забывать, что японцы обязательно продублируют запись своей совершенной техникой. Нет, японцы, конечно, хитры, но хитрость их лежит на поверхности, ведь и мы не лаптем щи хлебаем! А вот мы сводим его в Мавзолей! И потом предложим высказаться! Ничего что бывал много раз, поклониться ещё разок «великому вождю и основоположнику» всегда полезно. Погода зимняя, как-никак скоро Новый год, но вроде бы не слишком холодно, не околеет. Не зря ведь его тёплой одежонкой обеспечили, пусть отрабатывает! С другой стороны, даже на небольшом морозе вредный гость из Японии не очень-то разболтается! После посещения Мавзолея он наверняка промямлит что-нибудь о «необходимости сплочения и единства мирового коммунистического движения», а как же иначе! Только бы всё вышло как задумано. С этой мыслью Юра успокоился. А тут ещё жена толкнула его и сонным голосом сказала:
– Не мешай спать!
После её слов он спокойно заснул.
Примерно за полчаса до назначенного срока Юра притащился к Мавзолею. Милиция не раз проверила его паспорт и служебное удостоверение, но Юру заблаговременно внесли в соответствующий список, и никаких вопросов не возникло. Допотопный катушечный магнитофон в потёртом кожаном футляре с широким ремнём уже раз пять проверен. Тяжёлый с непривычки, но придётся потерпеть, лишь бы не барахлил.
Красная площадь вдруг оказалась буквально полностью очищенной от посторонних, и Юра это с удивлением отметил. Из припарковавшихся радом с площадью чёрных членовозов «ЗИЛ» не спеша и с заметным кряхтением выскочили мелковатые японцы и среди них – Миямото, который резко выделялся тем, что остальные японцы обращались к нему крайне почтительно, буквально как к императору. Один из японцев сразу достал шикарный фотоаппарат и стал щёлкать кадр за кадром. Тогда фотоаппараты были ещё плёночными. Вышли и наши, все знакомые Юре цековские рожи: Иван Иванович Коваленко, Алексей Иванович Сенаторов, Юрий Дмитриевич Кузнецов и прочая шушера помельче. Левин резво подскочил к Юре и зачастил:
– Уже здесь? Похвально! Магнитофон сегодня проверяли? Вопрос выучили? Ничего не перепутайте, дело ответственное!
Он так же стремительно переместился к цековским сотрудникам и от них к Миямото. Тут Юра смог хорошо разглядеть, как выглядит вождь японских коммуняк. Невысокий, немолодой, побитый жизнью, лицо нездорового цвета, на лице пигментные пятна, выдающие возраст и неухоженность, одет в поношенную дублёнку и далеко не новую пыжиковую шапку. Сразу было видно, что шапка и дублёнка годами хранились в шкафу и доставались на случай поездки в СССР, да и приобретены они были, скорее всего, в закрытой секции ГУМа. В то время любой московский завмаг или средний советский чиновник центрального ведомства одевался лучше. Миямото изобразил улыбочку и подошёл поближе. Рядом с ним постоянно крутился и щёлкал фотоаппаратом тот же японец. Наверняка из «Акахаты», небось, со включённым магнитофоном в кармане пальто.
Вся группа зашла в Мавзолей. Перед входом сняли шапки. В Мавзолее неулыбчивая охрана изображала полную отстранённость. Юра не любил кладбища, крематории и вообще всё относящееся к миру после смерти. Он недавно участвовал в похоронах 99-летнего деда, маминого отца и невольно окунулся на один день в торжественно печальную обстановку кладбища, ещё раз убедившись, как ему не по душе и похороны, и напускная скорбь, и постные лица родственников. По своей натуре Юра не относился ни к любящим сыновьям и внукам, ни вообще к тем, кто готов проводить бессонные ночи у постели больного родственника. Он нередко вспоминал и даже осмеливался цитировать, иногда весьма нетактично, очень понравившиеся ему строки из «Евгения Онегина»:
– …Боже мой, какая мука,
С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь.
Какое жуткое коварство полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять, печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя: «Когда же чёрт возьмёт тебя?!»
Хорошо хоть, что родители избавили его и себя от участия в поминках после погребения деда, в которых не видели смысла, будучи к тому же убеждёнными трезвенниками. Тогда же родители ему сказали, что хотели бы не кормить червей под землёй, а подвергнуться кремации. Так, мол, чище и разумнее с точки зрения экологии.
Деда и бабку похоронили в Истре, вспомнил Юра, где с землёй было полегче. А тут – усыпальница в самом историческом и священном для каждого русского сердце Москвы! На кой она? Глядя на отполированные стены Мавзолея, Юра подумал, что пристойнее было бы возвести это нелепое сооружение где-нибудь на Новодевичьем или ином кладбище, где оно было бы вполне к месту. Но в советское время задавать вопрос о целесообразности Мавзолея было кощунством, можно было схлопотать по полной программе.
Юра вспомнил, что никогда не бывал в Мавзолее по своей инициативе, сначала с родителями, потом в группе пионеров или с иностранными делегациями. Смотреть на выпотрошенную мумию – какая радость? Противно же в конце концов! Но наш народ смотрел, смотрит и будет смотреть, смотрят и иностранцы, пока наше руководство не примет волевое решение ликвидировать Мавзолей. Кстати, из всех лидеров Запада Мавзолей посетил во время визита в СССР только президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Видать, большой оригинал, недаром они с женой исключительно на «вы». Посещение Мавзолея никоим образом не навевало печаль типа «все там будем», не давало оно Юре, в отличие от ярых идейных поклонников марксизма-ленинизма, никакой идеологической подпитки, ибо что можно почувствовать при виде прозрачного гроба и подгримированной мумии личности, чьи заслуги весьма сомнительны? Только желание поскорее выйти на свежий воздух! Но раз Мавзолей стоит уже много десятилетий, это означает, что Мавзолей и культ поклонения давно усопшему вождю кому-то позарез нужны как некие идеологические цепи для сковывания тех, кто мыслит слишком вольно. Разрыв этих цепей неизбежен, но когда это случится? Долго ли ещё России и миру осталось ждать?
Прошли по строго заданному маршруту и вышли на чистый морозный воздух. Юра исподтишка рассматривал других и с радостью отметил, что для всех прочих, не только для него посещение Мавзолея стало своего рода ритуалом, абсолютно не затрагивающим ни эмоции, ни нервную систему.
И тут все как по команде остановились. Цековские уставились на Юру, а тот, уподобившись роботу после нажатия кнопки запуска программы, включил уже расчехлённый магнитофон и, обратившись к Миямото, выпалил продиктованную по телефону заготовку, попросив «сказать для наших японских радиослушателей несколько слов по поводу посещения Мавзолея и Москвы». При этом он приблизил микрофон буквально ко рту японца. Бобины магнитофона уже вращались с заметно слышимым скрипом. Тут забили куранты на Спасской башне: ровно полдень. «Отлично совпало, лучше не придумаешь», – подумал Юра и стал слушать, что скажет плюгавенький японский коммуняка.