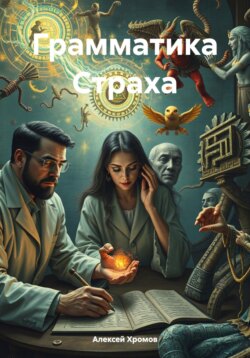Читать книгу Грамматика Страха - Алексей Хромов - Страница 4
Глава 3: Коллеги и Сомнения
Оглавление1.
Дни превратились в череду коротких перебежек между тремя фронтами: ускользающими Протоглифами, вязким болотом пафлагонского отчета и надвигающейся бытовой катастрофой в виде тети Вали и дяди Коли. Перфоратор за стеной стал его личным саундтреком безумия. Концентрация рассыпалась, как старая штукатурка.
Величко чувствовал, что заходит в тупик. Не только с дешифровкой, но и с собственным здравомыслием. Гипотеза о «Праязыке Сознания» казалась ему то гениальным прорывом, то бредом сумасшедшего. Мелкие и крупные неудачи сплетались в узор, который все труднее было списать на простую случайность. Тревога, поселившаяся в нем после первого сбоя, разрасталась, пуская холодные корни сомнений.
Он был волком-одиночкой по натуре, привыкшим вариться в собственном соку, полагаясь лишь на свой ум и интуицию. Делиться сырыми, неоформленными идеями, тем более такими… дикими, было не в его правилах. Это всегда казалось ему проявлением слабости, боязнью идти своим путем до конца.
Но сейчас ситуация была иной. Сложность задачи превосходила все, с чем он сталкивался. А главное – его собственное восприятие реальности начинало плыть. Ему нужен был якорь. Ему нужен был кто-то, кто посмотрел бы на все это со стороны, трезвым, не замутненным его одержимостью и паранойей взглядом. Кто-то, кто мог бы сказать: «Артем, это чушь, просто усталость», – и он, возможно, поверил бы. Или, наоборот, кто-то, кто, увидев те же странности, подтвердил бы, что он не сходит с ума.
Ему был нужен свежий взгляд. Или, может быть, ему просто было страшно оставаться один на один с этими молчаливыми глифами и растущим хаосом вокруг. Страшно признаться самому себе, что череда «совпадений» действительно выглядит как целенаправленное вмешательство. Разделить эту ношу, озвучить свои самые иррациональные подозрения – это могло бы помочь либо развеять их, либо подготовиться к чему-то худшему.
Коллег у него было немного, близких – и того меньше. Но были двое, к кому он мог бы обратиться. Двое совершенно разных людей, чей взгляд мог дать ему ту самую разностороннюю оценку, в которой он так нуждался. Старый скептик, чье мнение он уважал, пусть и часто не соглашался с ним. И молодой, увлеченный технарь, способный оценить не только лингвистическую, но и структурную, математическую сторону проблемы.
Решение далось нелегко. Признаться в своих «аномалиях», показать незавершенную, почти безумную гипотезу – это было все равно что добровольно подставиться под удар. Но альтернатива – в одиночку барахтаться в этом болоте странностей и сомнений – казалась еще хуже. Он должен был поговорить. Хотя бы попытаться.
2.
Кабинет профессора Игоря Матвеевича Бельского был полной противоположностью берлоги Величко. Здесь царил строгий, почти музейный порядок. Книги стояли на полках ровными рядами, рассортированные по темам и эпохам. На массивном дубовом столе – ни одной лишней бумаги, лишь аккуратная стопка текущих рукописей, бронзовый пресс-папье и старинная чернильница, которой Бельский, вопреки прогрессу, действительно пользовался. Пахло хорошим табаком (профессор курил трубку) и той особой пылью времени, которая скапливается в местах, где серьезно занимаются прошлым.
Бельский, седовласый, с коротко подстриженной бородкой и проницательными глазами за толстыми стеклами очков в роговой оправе, был одним из столпов института. Классический историк-археолог, признанный авторитет в области древних цивилизаций Ближнего Востока, он славился своим въедливым скептицизмом и органической неприязнью к любым «сенсациям», не подтвержденным железобетонными фактами стратиграфии и материального контекста. Именно к нему, как к камертону здравого смысла, Величко и решил обратиться в первую очередь.
Он вошел в кабинет, чувствуя себя немного неловко со своей папкой, в которой лежали распечатки загадочных глифов – нечто настолько выходящее за рамки привычной науки, что представить это Бельскому было сродни попытке объяснить теорию струн неандертальцу.
– Игорь Матвеевич, можно вас на пару минут? – Величко остановился у порога.
Бельский оторвался от какой-то древней карты, испещренной пометками.
– А, Артем Игоревич, заходите. Что-то срочное? Если по поводу той дурацкой директивы о публикационной активности, то я уже выразил свое мнение Лазареву…
– Нет-нет, не по этому поводу, – поспешил успокоить его Величко. – Дело… другого рода. Научное. Я хотел бы показать вам кое-что и услышать ваше мнение. Если у вас есть время, конечно.
Бельский окинул его оценивающим взглядом, поправил очки.
– Мнение? Что ж, излагайте. Только учтите, я сегодня не в лучшем расположении духа – архивные крысы опять перепутали документацию по раскопкам в Угарите.
Величко подошел к столу и осторожно выложил несколько лучших распечаток с изображениями артефактов и глифов.
– Вот, взгляните. Недавно получил доступ к этим… объектам. Неясного происхождения, без контекста, к сожалению. Но надписи…
Бельский взял один лист, поднес поближе к свету настольной лампы. Его лицо не выразило ни удивления, ни интереса – лишь профессиональное внимание патологоанатома, изучающего очередной случай.
– Хм. Похоже на какую-то псевдоэпиграфику. Или неудачную стилизацию. Откуда это? Опять «черные копатели» что-то принесли?
– Происхождение туманно, – признал Величко. – Но я почти уверен, что это не подделка и не стилизация. Игорь Матвеевич, я провел первичный анализ. Это совершенно уникальная система письма. Ничего подобного нигде не зафиксировано. Ни в одном известном языке или культуре. Но главное – здесь есть внутренняя структура. Вот, смотрите…
Он взял другую распечатку, где обвел красным найденные им маркеры начала и конца блоков.
– Вот эти комбинации. Они повторяются строго в определенных позициях. Всегда в начале блока, или всегда в конце. Это не хаотичные царапины. Это система. Пусть непонятная, но система. Я предполагаю, что это маркеры каких-то синтаксических или смысловых единиц.
Он говорил сдержанно, стараясь опираться только на факты, на саму структуру знаков, избегая любых намеков на свои более смелые гипотезы или странные происшествия. Он надеялся, что сама уникальность и упорядоченность глифов произведет впечатление на прагматичный ум Бельского.
Профессор молча разглядывал распечатки, несколько раз хмыкнул себе под нос, потер переносицу. Затем он отложил листы.
– Структура, говорите… Повторяющиеся элементы можно найти и в трещинах на старой стене, Артем Игоревич, если долго всматриваться. Особенно если очень хочется их найти.
Он посмотрел на Величко поверх очков.
– Поймите меня правильно. Может быть, это действительно что-то любопытное. Но без контекста… Что это? Откуда? Какой век? Какая культура? Без ответов на эти вопросы – это просто набор любопытных закорючек. Игрушка для ума, не более. Мы не можем строить науку на артефактах, выловленных из ниоткуда. Это путь к шарлатанству и мистификациям, которым вы, кажется, всегда были не чужды со своими «изолированными языками».
Величко почувствовал укол от последней фразы, но промолчал. Реакция была предсказуемой.
– Но сама уникальность системы, Игорь Матвеевич… Разве она не заслуживает изучения? Даже если контекст утерян?
– Уникальность – это первое прибежище фальсификаторов, дорогой мой, – вздохнул Бельский, доставая свою трубку. – Проще всего выдумать то, чего никто не видел. Не тратьте время попусту. Займитесь лучше своими пафлагонскими диалектами, вот где настоящая, добротная работа, пусть и без громких сенсаций.
Он начал набивать трубку табаком, давая понять, что разговор окончен. Величко собрал свои распечатки. Легкое разочарование смешивалось с каким-то странным облегчением. Он не услышал подтверждения своим страхам, но и не получил поддержки. Бельский остался верен себе. Стена скепсиса была непробиваемой. Значит, придется идти дальше. К кому-то, кто мыслит иначе.
3.
Величко вышел из кабинета Бельского, чувствуя себя так, словно его только что окунули в ледяную воду здравого смысла. Холодный вердикт профессора не убил его решимости, но неприятно обескуражил. Классическая наука, зацикленная на контексте и прецедентах, просто не знала, что делать с такой аномалией, как его глифы. Она предпочитала объявить их несуществующими.
Но он не собирался сдаваться. Если гуманитарный подход, основанный на аналогии и историческом контексте, пасовал, то, возможно, стоило зайти с другой стороны? Со стороны чистой структуры, математики, анализа данных?
Он направился в другой конец коридора, туда, где располагалась вотчина Лены Воронцовой. Лена была полной противоположностью Бельскому – молодой системный аналитик, почти аспирантка, увлеченная алгоритмами, нейросетями и обработкой больших данных. Она помогала многим «традиционным» ученым института с их базами, статистикой и визуализацией, часто спасая их от цифровой безграмотности. Ее рабочее место напоминало скорее кокпит звездолета, чем кабинет ученого: несколько мониторов с бегущими строками кода, пучки проводов, разобранная клавиатура, белая доска, испещренная сложными формулами и блок-схемами. Пахло не табаком, а озоном от работающей техники и едва уловимым ароматом кофе из термокружки.
Лена сидела, погруженная в один из своих мониторов, быстро перебирая пальцами по клавиатуре. Наушники закрывали уши, отсекая ее от внешнего мира. Величко кашлянул, чтобы привлечь ее внимание.
Лена вздрогнула, сняла наушники.
– А, Артем Игоревич? Привет. Что-то случилось? База по шумерским глаголам опять слетела?
На ее лице мелькнуло сочувствие – видимо, проблемы с базами у гуманитариев были делом привычным.
– Нет, Лена, с базой все в порядке, – улыбнулся Величко чуть криво. – У меня другое. Дело… специфическое. Можно тебя отвлечь на минутку?
– Давай, – она развернулась к нему на своем крутящемся кресле. – Только если это не очередная «гениальная» идея Лазарева по внедрению блокчейна в учет библиотечных карточек.
– Поверь, это поинтереснее. И, возможно, безумнее, – Величко подошел ближе и протянул ей флешку, ту самую, которую он прятал в ящике стола. – Понимаешь, у меня есть… массив данных. Графических. Вот эти знаки.
Он быстро показал ей несколько распечаток с глифами, включая ту, что с маркерами.
– Я перевел их в условный код. Но проблема в том, что стандартные лингвистические анализаторы на них не работают. Частотный анализ дает шум, поиск паттернов – почти ничего. Это не похоже ни на один известный язык или код. Но структура там точно есть. Я нашел кое-какие поверхностные закономерности, – он ткнул пальцем в обведенные маркеры, – повторяющиеся комбинации в определенных позициях.
Он посмотрел на Лену в упор.
– Мне нужна помощь. Компьютерный анализ. Во-первых, проверить мои гипотезы о повторяемости этих маркеров – может, я просто выдаю желаемое за действительное. А во-вторых… поискать что-то еще. Скрытые закономерности. Может, там не линейная структура, а какая-то другая логика? Математическая? Фрактальная? Я не знаю. Стандартные методы не берут. Нужен нетривиальный подход.
Он протянул флешку.
– Сможешь взглянуть? Просто как на странный набор данных. Без всякой лингвистики. Чистая структура.
Лена взяла флешку, ее глаза загорелись профессиональным любопытством. Она быстро пролистала распечатки.
– Хм… Действительно странные значки. На что хоть похоже?
– Ни на что, – пожал плечами Величко. – В этом-то и проблема. Или прелесть.
Лена задумчиво повертела флешку в руках.
– Нетривиальный массив данных… Странное поведение стандартных алгоритмов… Окей, – она улыбнулась. – Звучит как вызов. Люблю такое. Скину данные, погоняю своими скриптами. Может, что и вылезет. Предупреждаю сразу – если там действительно какая-то экзотическая математика, это может занять время. Но интересно попробовать. Оставь флешку. Я посмотрю, как будет время.
4.
Как и обещала, интерес Лены к нетривиальной задаче перевесил текущую рутину. В тот же вечер, когда Величко, разрываемый между отчетом и попытками подготовить квартиру к приезду гостей, почти забыл о своем визите к ней, она прислала короткое сообщение: "Запустила первичный анализ твоих закорючек. Любопытно."
Это короткое сообщение стало для Величко глотком свежего воздуха посреди удушающей атмосферы проблем. Он не ожидал быстрых результатов, но сам факт, что кто-то еще, кроме него, погрузился в эти данные, немного успокаивал.
Через день Лена сама подошла к нему в коридоре института. Выглядела она слегка озадаченной, но и заинтригованной.
– Слушай, Артем Игоревич, я тут покопалась с твоими глифами… – начала она, понизив голос, словно делясь секретом. – Очень, очень необычный массив данных. Ты был прав насчет стандартных методов.
Она жестом пригласила его отойти к окну, подальше от случайных ушей.
– Я запустила все, что у меня есть под рукой – от простейшего частотного анализа до более хитрых штук, типа поиска скрытых марковских цепей и алгоритмов сжатия без потерь, которые иногда выявляют скрытую структуру…
Она помолчала, подбирая слова.
– Результаты… странные. Не то чтобы совсем ничего нет. Твои маркеры – да, система их видит, повторяемость подтверждается, хотя и не стопроцентная. Но вот дальше…
Лена нахмурилась, словно пытаясь сформулировать что-то трудноуловимое.
– Понимаешь, обычно, когда обрабатываешь текст или код, пусть даже зашифрованный, алгоритмы либо находят какую-то закономерность, либо показывают ровный белый шум, если это действительно случайный набор. А здесь… не то и не другое. Алгоритмы ведут себя… непредсказуемо.
– Что значит – непредсказуемо? – Величко почувствовал укол знакомой тревоги.
– Ну, например, стандартный алгоритм частотного анализа на одних участках последовательности выдает почти равномерное распределение, как у случайного шума, а на других, очень похожих, вдруг показывает резкие пики на определенных символах, но эти пики нестабильны и меняются, если немного изменить параметры анализа. Поиск корреляций между соседними символами то дает сильные связи, то вообще ничего. Алгоритмы сжатия работают крайне неэффективно, как будто данные не содержат избыточности, что нетипично для любого языка или кода…
Она вздохнула.
– В общем, такое чувство, как будто… как будто данные ‘сопротивляются’ обработке. Или там не просто неизвестная структура, а какой-то совершенно иной принцип организации. Не последовательный, может быть? Или зависящий от чего-то, что мы не учитываем… Я такого раньше не видела. Это не похоже на обычные данные, даже самые сложные.
Лена посмотрела на Величко с живым интересом, смешанным с профессиональным азартом.
– Что это вообще такое, откуда ты это взял? Похоже на задачку из криптографии какого-то запредельного уровня. Или… что-то еще.
Искра интереса в ее глазах горела ярко. Она столкнулась с вызовом, который задел ее за живое. И ее слова о «сопротивлении данных», о непредсказуемом поведении алгоритмов пугающе перекликались с собственными ощущениями Величко и тем первым сбоем компьютера. Словно невидимая рука вмешивалась не только в его жизнь, но и в работу машин, пытающихся разгадать тайну глифов.
5.
Пока Лена боролась с непредсказуемым поведением глифов в цифровом мире, Величко продолжал тонуть в трясине вполне реальных, материальных неприятностей. Словно кто-то, недовольный тем, что он привлек к исследованию еще одного человека, решил усилить давление на него самого, атакуя со всех флангов повседневной жизни.
Вернувшись вечером домой после очередного дня, проведенного в метаниях между отчетом, Ленкой и перфоратором, он столкнулся с новой проблемой буквально на пороге. Ключ, который верой и правдой служил ему много лет, вдруг отказался поворачиваться в замке. Он застрял намертво. Величко крутил его и так, и эдак, дергал, пробовал смазать подручными средствами – бесполезно. Пришлось вызывать мастера из аварийной службы, который провозился с замком больше часа, бормоча что-то про "уникальный случай заедания механизма", и в итоге вскрыл его с таким грохотом, что соседи высунулись на лестничную площадку. Еще одна незапланированная трата денег и, что хуже, времени и нервов.
На следующий день, пытаясь расплатиться за продукты в супермаркете, он с ужасом обнаружил, что его банковская карта заблокирована. Автоматический голос на горячей линии банка монотонно сообщил ему о «подозрительной активности» и необходимости лично явиться в отделение с паспортом для разбирательства. Никакой подозрительной активности, разумеется, не было – последние его траты были на книги и кофе. Но это означало еще один вычеркнутый из жизни день, который придется потратить на поход в банк и унизительные объяснения с клерками, вместо того чтобы заниматься Протоглифами.
И, словно в насмешку, интернет дома, который и так работал не слишком быстро, превратился в сущую пытку именно тогда, когда Величко попытался найти и скачать несколько редких статей по теоретической лингвистике и когнитивным наукам, которые могли бы хоть как-то пролить свет на его гипотезу о «Праязыке Сознания». Страницы грузились по пять минут, файлы объемом в пару мегабайт скачивались часами или загрузка обрывалась на середине. При этом обычные сайты – новости, погода – открывались без проблем. Саботаж казался настолько избирательным, что это уже даже не удивляло, а вызывало лишь тупую, бессильную злость.
Каждая из этих неурядиц была классической бытовой проблемой, с которой сталкиваются миллионы людей. Но их концентрация, их синхронность с его работой и с трудностями, которые испытывала Лена, – все это складывалось в зловещую картину. Словно мир вокруг него активно, хоть и мелко, пакостил, стараясь максимально затруднить его существование и исследование. Его личная полоса неудач продолжалась, и он все меньше верил, что это просто полоса. Это начинало походить на осаду.
6.
Днем, в поисках спасения от шума (который сегодня почему-то был особенно неистов) и в надежде на чашку крепкого кофе, Величко спустился в институтский буфет. Людей было немного, пахло вчерашними пирожками и дешевым кофе. За одним из столиков он увидел Бельского, мрачно размешивающего сахар в чашке, и Лену, быстро печатающую что-то на ноутбуке рядом с ним. Стечение обстоятельств, которое Величко воспринял с двояким чувством: и возможностью получить новую информацию от Лены, и необходимостью снова столкнуться со скепсисом Бельского.
Он подошел к их столику.
– Можно присоединиться?
Бельский поднял голову, на его лице было выражение вселенской усталости от несовершенства мира.
– А, Величко. Присаживайтесь. Если только не собираетесь опять пытать меня своими загадочными камушками. С меня хватит и Лазарева с его новой инициативой по «оптимизации использования архивных фондов». Формуляры на каждый чих! Скоро дышать без приказа перестанем!
Лена оторвалась от ноутбука, на ее лице была тень той же озадаченности, что и при их последнем разговоре. Она бросила на Величко быстрый, значительный взгляд.
– Привет, Артем Игоревич. Игорь Матвеевич просто борется с ветряными мельницами бюрократии.
– Ветряными? – проворчал Бельский. – Да эти мельницы нас скоро всех перемелют в отчетную пыль! Работа стоит, а мы бумажки заполняем! В наше время…
Пока Бельский предавался излюбленной теме сетований на административный идиотизм, Лена незаметно наклонилась к Величко.
– Кстати, о работе… – прошептала она так, чтобы Бельский не услышал. – С твоими файлами все чудесатее и чудесатее. Помнишь, я говорила про зацикливание на определенных комбинациях? Так вот, я попробовала изолировать эти «опасные» последовательности и запустить анализ в обход них. Думала, может, просто выкинуть их как поврежденные или бессмысленные.
Она сделала паузу, ее глаза стали серьезными.
– Так вот, как только я это сделала, другая часть данных, которая раньше обрабатывалась нормально, начала вызывать сбои. Как будто… как будто система перестраивается, чтобы защитить себя. Находишь один «защитный механизм», обходишь его – она тут же выставляет другой. Это… это не похоже на статичные данные. Оно ведет себя почти как адаптивный вирус. Или что-то типа того.
Величко слушал, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Адаптивная защита? Сопротивление, меняющее форму? Это выходило далеко за рамки просто «странных данных».
– …и вот я ему говорю, – громко продолжал Бельский, не замечая их тихого разговора, – какая может быть оптимизация, когда у нас каталоги с прошлого века не обновлялись!
Величко кивнул Лене, давая понять, что услышал. Он был зажат между двумя реальностями: миром Бельского, где самой большой проблемой были бюрократические директивы, и миром, проступающим сквозь отчеты Лены, где древние знаки вели себя как враждебный, адаптивный код. И граница между этими мирами становилась все тоньше.
7.
Поймав паузу в гневной тираде Бельского про некомпетентность министерских чиновников, Величко решился забросить пробный шар, проверить реакцию на свои бытовые неприятности.
– Да уж, Игорь Матвеевич, бюрократия – это зло, – согласился он с максимально сочувствующим видом. – Но у меня тут еще и на бытовом уровне какая-то черная полоса. Просто одна неудача за другой.
– А что такое? – Бельский переключил внимание, видимо, устав от собственных жалоб.
– Да так, мелочи, но все сразу, – Величко начал перечислять, стараясь сохранять ироничный тон. – Ключ в замке сломался намертво, пришлось дверь вскрывать. Карту банк заблокировал ни с того ни с сего, теперь надо идти разбираться. Интернет дома ползает как черепаха, именно когда нужные статьи скачать пытаюсь. Чай вот сегодня на важную распечатку пролил… Как будто кто-то мелких пакостей специально насыпал.
Он ожидал от Бельского какой-нибудь снисходительной реплики про бытовые трудности интеллигенции. Но реакция пришла с неожиданной стороны.
Лена, слушавшая его с возрастающим вниманием, вдруг сказала:
– Слушай, а у меня ведь тоже неделя совершенно сумасшедшая. Прям одна проблема за другой.
– У тебя что? Тоже карта и ключи? – усмехнулся Величко.
– Нет, другое, но по сути – то же самое. Сначала рабочий ноут начал дико глючить, операционка упала посреди ночи, когда я твои глифы гоняла. Потеряла часть расчетов, пришлось переделывать. Потом дома свет начал моргать странно, вчера вечером вообще вырубился на полчаса – опять же, именно в тот момент, когда я запустила особенно сложный алгоритм по твоим файлам на домашнем компе. Роутер тоже сбоит постоянно… Вроде мелочи, но все вместе так достало!
Они с Величко переглянулись. Параллели были очевидны. Мелкие технические и бытовые сбои, преследующие обоих, как только они приближались к Протоглифам.
Бельский, до этого молча наблюдавший за их диалогом, громко фыркнул.
– Магнитные бури, молодежь, магнитные бури! – изрек он с видом всезнающего мудреца. – На Солнце сейчас активность повышенная, вот техника и дурит, и люди нервничают, ключи ломают. А вы сразу ищете мистику, заговоры… Вечно вам что-то мерещится! Просто совпадения, обусловленные вполне земными причинами.
Он с явным удовлетворением от своей рациональности отпил кофе. Но его слова прозвучали как-то неубедительно на фоне синхронности и специфичности проблем, с которыми столкнулись Величко и Лена. Слишком уж точно эти «магнитные бури» били по тем, кто прикоснулся к глифам. Слишком избирательно.
8.
После авторитетного заявления Бельского о магнитных бурях в буфете повисла короткая, чуть неловкая пауза. Лена пожала плечами, но во взгляде, которым она обменялась с Величко, читалось не столько согласие с профессором, сколько тихое, взаимное недоумение. Магнитные бури – удобное объяснение, но оно не объясняло избирательности ударов. Почему «бури» так прицельно бьют по их компьютерам, замкам и банковским счетам, и именно тогда, когда они работают с глифами?
Прямого обвинения какой-то «силы», стоящей за артефактами, никто, конечно, не выдвигал. Это прозвучало бы дико, ненаучно, прямо по Бельскому – поиском мистики. Но сама синхронность проблем, их явная корреляция с исследованием Протоглифов – это уже нельзя было игнорировать. Зерна подозрения, посеянные первыми сбоями, теперь дали всходы и в сознании Лены. Она видела аномалию в данных, Величко – в своей жизни. И эти аномалии казались отражением друг друга.
Величко молча допил свой кофе, чувствуя странное смешение тревоги и… подтверждения. Скептицизм Бельского не развеял его опасений. Наоборот, он их подчеркнул. Своим неприятием всего, что выходит за рамки учебника, Бельский лишь ярче высветил уникальность и странность находки. А технические проблемы Лены, ее рассказ о «сопротивлении данных», о зацикливании алгоритмов – это было уже не просто совпадение. Это было косвенное, но веское свидетельство того, что он имеет дело с чем-то из ряда вон выходящим, с чем-то, что активно взаимодействует с попытками его изучить.
Возможно, Бельский был прав насчет магнитных бурь и сломанных ключей как отдельных событий. Но общая картина, складывающаяся из этих разрозненных мазков, неумолимо указывала на то, что его исследование – не просто академическое упражнение. Оно вызывает реакцию. Непонятную, деструктивную, но реакцию. И это осознание одновременно пугало и придавало его работе новый, опасный смысл. Необычность находки подтверждалась не только уникальностью самих глифов, но и странным, враждебным эхом, которое она порождала в окружающем мире.