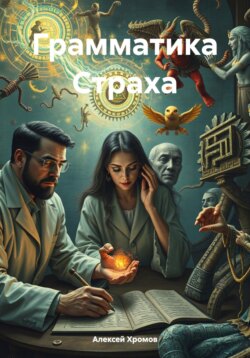Читать книгу Грамматика Страха - Алексей Хромов - Страница 5
Глава 4: Живой Язык?
Оглавление1.
Тетя Валя и дядя Коля наконец прибыли, заполнив квартиру шумом, суетой и запахом дорожных сумок. Пафлагонский отчет был сдан в последнюю минуту, вызвав лишь короткий, недовольный кивок Лазарева. Соседи сверху, к счастью, то ли закончили свой разрушительный ремонт, то ли просто взяли паузу. Внешний хаос немного улегся, но сменился внутренним смятением.
Он чувствовал себя выжатым, опустошенным, но мысль о глифах не отпускала. Особенно теперь, после разговоров с Леной.
Ее слова – «сопротивление данных», «стабильно странный результат», «ломает логику алгоритмов», «ведет себя почти как адаптивный вирус» – эхом отдавались в его сознании. Они пугающе точно ложились на его собственные ощущения, на череду мелких и крупных неприятностей, на тот первый, необъяснимый сбой компьютера. Это не были просто пассивные знаки на камне. Что-то происходило, когда он или Лена пытались применить к ним стандартные методы анализа. Что-то активно мешало.
Он снова и снова всматривался в светящиеся на мониторе глифы. Все попытки найти привычную семантику – значение слов, понятий – проваливались. Все попытки вскрыть грамматику по известным лекалам – тоже. Может, он просто стучался не в ту дверь? Может, он задавал не те вопросы?
Лингвистика знала понятие «прагматика» – раздел, изучающий функционирование языка в реальных ситуациях общения, то, как язык используется для действия: приказа, просьбы, обещания, объявления. «Объявляю вас мужем и женой», «Клянусь говорить правду», «Ставлю на красное» – это не просто описания, это действия, совершаемые словами. Перформативные высказывания.
А что если?..
Что если эта концепция, в случае Протоглифов, должна быть понята не метафорически, а буквально? Что если этот язык – это не система описания мира, а система взаимодействия с ним? Инструмент?
Мысль была настолько дикой, что он чуть не отмахнулся от нее. Но слова Лены не шли из головы. Сопротивление данных… сбои алгоритмов… Что если это не пассивное свойство сложной структуры, а активная реакция системы, которая не предназначена для того, чтобы ее просто «читали»? Что если ее пытаются использовать не по назначению – анализировать вместо того, чтобы… применять?
Новый угол зрения начал вырисовываться. Не семантика – значение. А прагматика – функция. Но не в социальном смысле, как у обычных языков, а в каком-то ином, фундаментальном. Возможно, физическом? Когнитивном? Что если Протоглифы – это своего рода операционный код реальности? Набор команд, инструкций, формул, способных влиять на… на что? На материю? На сознание? На саму ткань бытия?
Эта гипотеза была чудовищной, отдающей самой махровой лженаукой и мистикой. Но она, как ни странно, одним махом объясняла и уникальность системы, и ее неподатливость стандартным лингвистическим методам, и странные «побочные эффекты», с которыми столкнулись он и Лена. Если ты пытаешься взломать и препарировать операционную систему Вселенной, стоит ли удивляться, что она начинает глючить и сопротивляться?
2. Оперативная Грамматика
Схватившись за эту безумную, но навязчивую идею об «операционной прагматике», Величко лихорадочно начал перебирать свои рабочие записи – и в блокноте, и в том самом восстановленном файле Proto_Structure_v2.docx. Он искал нестыковки, аномалии, те странные грамматические конструкции, которые он ранее отметил, но не смог объяснить в рамках традиционных лингвистических моделей. Теперь он смотрел на них под совершенно другим углом.
Вот те самые маркеры начала и конца блока (НМ и КМ). Раньше он предполагал, что это аналоги знаков препинания или некие разделители фраз. Но что, если это не просто разделители, а… инициаторы и терминаторы операции? Сигналы «Начать выполнение» и «Завершить выполнение»?
А как насчет тех коротких, но устойчивых комбинаций глифов, которые часто встречались внутри блоков, но не имели ясной синтаксической роли – ни подлежащего, ни сказуемого, ни определения? Он пытался трактовать их как какие-то служебные слова, предлоги или частицы, но это ни к чему не приводило. А что если это – не слова, а операторы? Указатели на тип действия, которое должно быть выполнено? А другие, более вариативные последовательности глифов, следующие за ними, – это операнды, то есть объекты или параметры, к которым применяется действие?
Он взял одну из наиболее частотных, но непонятных конструкций: определенный сложный глиф (условно «Звезда») + короткая последовательность простых символов (условно «Волна») + вариативный блок глифов. Раньше он ломал голову, пытаясь понять, что означает «Звезда» и «Волна». Может, это какой-то глагол и частица? Или существительное и определение? Теперь он попробовал другую интерпретацию: «Звезда» – это команда (например, «Изменить свойство»), «Волна» – указатель на свойство (например, «Цвет» или «Положение»), а следующий блок – это объект, к которому применяется команда (например, «Стол» или «Мысль»).
Это была чистая спекуляция, конечно. Он не понимал значения ни одного глифа. Но сама структура внезапно начинала обретать новую, пусть и пугающую, логику. Модель «оператор + операнд(ы)» гораздо лучше объясняла некоторые странные последовательности и повторы, чем классическая модель «субъект + предикат + объект». Она объясняла, почему одни элементы были почти неизменны (операторы?), а другие – чрезвычайно вариативны (операнды?). Она могла бы объяснить и «сопротивление данных», которое заметила Лена: возможно, алгоритмы сбоили, пытаясь анализировать эти конструкции как описательный текст, тогда как они представляли собой нечто совершенно иное – активные инструкции.
Гипотеза была безумной. Она пахла магией, а не наукой. Представить себе язык, который не описывает реальность, а оперирует ею… это было за гранью всего, чему его учили, во что он верил как лингвист. Но факты – те немногие странные факты, что у него были, – упрямо указывали в этом направлении. Аномалии в структуре текста, необъяснимые сбои при анализе… Все это начинало выстраиваться в единую, тревожную картину, если принять за основу эту невозможную идею об «оперативной грамматике». И Величко чувствовал, что он уже не может просто отмахнуться от нее. Слишком многое она объясняла.
3. Момент Прозрения
Было далеко за полночь. Квартира погрузилась в сонную тишину, нарушаемую лишь мерным посапыванием дяди Коли . Город за окном тоже притих, превратившись в далекое, низкое гудение. Величко сидел за столом , заваленном бумагами, под единственным кругом света от настольной лампы. Воздух был густым от усталости и кофеина, но его мозг работал на пределе, подстегиваемый новой, безумной гипотезой об «оперативной грамматике».
Он сопоставлял несколько коротких фрагментов текста Протоглифов. Два из них были почти идентичны, отличаясь лишь одним-единственным глифом в середине. Третий фрагмент содержал начальную часть первого, но заканчивался иначе. Все они содержали тот самый предполагаемый оператор «Звезда», который он условно связал с идеей «Изменения». Он пытался нащупать логику вариаций, понять, что менялось в «операнде» при замене этого одного глифа или при обрыве последовательности.
Часы на стене давно стояли, но время ощущалось по-другому – тягучим, почти застывшим. Он перебирал варианты в уме, чертил схемы в блокноте, снова и снова всматривался в переплетение линий на экране. Он был близко, он чувствовал это. Словно ответ висел прямо перед ним, но был написан невидимыми чернилами.
И вдруг, в какой-то момент абсолютной тишины, когда его взгляд перескочил с одного фрагмента на другой, а потом на третий, в его голове что-то щелкнуло. Со щелчком таким громким, что ему показалось, будто звук был реальным. Все встало на свои места. Мгновенно. Ослепительно.
Он понял.
Он понял логику не всего языка, нет, но одной короткой последовательности. Той самой, с оператором «Звезда». Он понял, как взаимодействуют между собой эти несколько глифов. И понимание было настолько чуждым всему, что он знал о языке, что у него перехватило дыхание.
Это не было описание действия. Это не было предложение типа «Камень меняет положение». Нет. Это была… формула. Алгоритм. Сама инструкция для изменения. Последовательность глифов не рассказывала о действии, она была им. Она кодировала сам процесс перехода из одного состояния в другое. Как математическая формула описывает не объект, а отношение, так и эта последовательность глифов описывала (или, вернее, инициировала