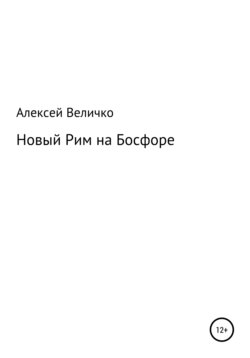Читать книгу Новый Рим на Босфоре - Алексей Михайлович Величко - Страница 4
Династия Константина
I. Святой равноапостольный Константин Великий (306—337)
Глава 1. На пути к единоличной власти
ОглавлениеБиография св. Константина Великого является прямым историческим опровержением иногда высказываемому тезису, будто личность монарха не влияет на ход развития человеческого общества. Святой Константин относится как раз к тому типу людей, которые выступили орудием Провидения, соединив для достижения поставленной цели свою волю и лучшие качества характера. Исследователю, повествующему о св. Константине, повезло: далеко не каждый исторический персонаж, даже из числа великих деятелей человечества, способен похвастать такой широкой библиографией о себе, как святой и равноапостольный император.
«Слава Константина, – справедливо отмечал один историк, – придала мельчайшим подробностям касательно его жизни и образа действий особый интерес в глазах потомства». Уже место его рождения и социальное положение матери – св. Елены (250—330) сопровождается массой гипотез и легенд. Некоторые, наиболее ревностные почитатели первого христианского императора Рима, выводят его родословную через мать от одного из королей Британии. Полагают, будто ее отцом являлся некий Коль, король бриттов из Колчестера31.
Вторая легенда гласит, что отец первого святого царя – Констанций Хлор (305—306) приходился внуком известному Римскому императору Клавдию II Готскому (268—270)32. Но объективность требует признать, что св. Елена была совсем невысокого рода, скорее всего, дочерью хозяина гостиницы и содержанкой (конкубиной) отца св. Константина, который в действительности не имел такой славной родословной. Но это не главное – оба они искренне и глубоко любили друг друга. И даже позднее, когда в силу политических обстоятельств Хлор был вынужден жениться на другой женщине, он не оставил свою первую любовь. От этого союза римского солдата и дочери владельца гостиницы, вероятно в Дакии, в 288 г. и родился будущий великий император римлян33.
Его отец к тому времени уже сумел снискать себе славу и авторитет на воинской ниве и носил прозвище «Хлор», что означало «Бледный». Именно благодаря его умелым действиям в 296 г. нашел свою погибель Каррузий (287—293), «император»-узурпатор Британии. Когда Констанций облекся в пурпурную тогу, его сыну св. Константину было уже 20 лет. Юность и молодость нашего героя были вполне традиционными для римлянина-аристократа, хотя и несла на себе отпечаток той удивительной и необычной эпохи.
Как известно, при императоре Диоклетиане (284—305) система государственной власти Римской империи претерпела существенное изменение. Вместо одного императора в Империи в 286 г. появилось два августа – сам Диоклетиан и его выдвиженец Максимиан Геркулий (286—305). Диоклетиан прекрасно понимал, что в одиночку не в состоянии управлять Империей. И только непосредственное присутствие в провинциях лица, облеченного статусом «император», является панацеей от угрожавших Римской империи опасностей34.
Невозможно было оказаться и на берегах Рейна, и у Дуная, который атаковали сарматы, и на границах с могущественной Персией, только что отвоевавшей значительные территории у Рима. Острые ситуации усугублялись проблемой гигантских расстояний между центром власти и «горячими» точками. И, не имея сына, 40‑летний Диоклетиан разделил, неформально сохраняя при этом главенство в августейшей паре, власть с давним своим товарищем35.
Хотя для Рима это новшество было в диковинку, в данную конкретную минуту оно имело чрезвычайно высокий эффект. Уже в скором времени Персия была разгромлена и вынуждена заключить мир на крайне невыгодных для себя условиях, уступив Риму пять своих областей. Благодаря умелым действиям Геркулия узурпаторы Каравзий и Алект, объявившие себя в Англии императорами, были поражены и погибли. Франки, карпы и маркоманы были разбиты и отброшены, армия, финансы и промышленность восстановлены. Впрочем, поражают воображение не только сами успехи, но и то обстоятельство, что они были достигнуты вчерашними рядовыми солдатами, обладавшими почти беспрецедентной волей и характерами, не желавшими слушать ничьих советов; причем достигнуты в весьма короткие даже для современной эпохи сроки.
Однако далеко не все проблемы были решены в первое пятилетие правления двух августов. Сирию захлестывали набеги сарацинов, в Египте росло недовольство, вскоре вылившееся в широкомасштабное восстание. Да и могучая Персия явно не собиралась складывать оружие. В этих условиях перед Диоклетианом сохранялась проблема создания новых центров власти. И он продолжил свои политические опыты, подключив к управлению Римской империей уже четырех соправителей, каждый из которых окормлял своей властью ряд провинций.
Двое из них являлись августами, двое – цезарями, и, по мысли Диоклетиана, через некоторое время августы должны были выйти в добровольную отставку, чтобы их место заняли набравшиеся политического и военного опыта цезари. В этом контексте цезари являлись «подмастерьями» августов: они должны были учиться и набираться знаний у своих старших товарищей, преемниками которых собирались стать спустя некоторое время. Принцип преемственности власти, установленный Диоклетианом, подразумевал новый набор цезарей после рокировки соправителей и т.д. Таким образом, по мысли Диоклетиана, исключалась борьба за власть, а управление провинциями приняло необходимые оперативные черты, чего явно не хватало ранее при излишней централизации государственной власти36.
Суть взаимоотношений между августами и цезарями определили следующим образом: «Duo sint in republica maiores, qui summam rerum teneant, duo minores, qui sint adjuvamento» («Двое должно быть в государстве старших, кто всю полноту дел держит, двое младших, кто им помогает»).
Для облегчения управления государством Диоклетиан разделил всю Империю на четыре префектуры: 1) Восток; 2) Иллирия; 3) Италия и Африка; 4) Галлия вместе с Британией и Испанией. Префектуры разделялись на 12 диоцезов, а диоцезы на 101 провинцию. Соответственно этому во главе префектур находились гражданские чиновники (prefecti praetorio), сосредоточившие власть управления (кроме военной) в своих руках. Диоцезы и провинции также имели своих чиновников, вследствие чего появлялся некий «скелет», на котором держалось управление Римской империей. Можно, конечно, согласиться с тем, что такая система управления подрывала и шла вразрез с древним римским муниципальным строем, но время требовало других управленческих решений, чем те, что родились на заре становления Римской республики37.
Удивительно, но факт – тетрархия не предполагала разделения верховной власти; она оставалась единой и неделимой, просто почила на главах сразу четырех своих избранников, один из которых, сам Диоклетиан, являлся главным августом, или императором. Первоначально августами стали непосредственно Диоклетиан и Максимиан, а отец св. Константина Констанций и Галерий (305—311) – цезарями. После 305 г., то есть после добровольной отставки больного Диоклетиана, Констанций и Галерий стали августами, а Флавий Север и Максимин Даза (305—313) – цезарями. По договоренности Констанцию досталась в управление Северно-западная часть государства – Галлия, Британия и Испания.
Этот принцип формирования верховной власти сыграет решающую роль в жизни св. Константина, предопределив характер его деятельности на целые десятилетия. А также самым решительным образом скажется на политической жизни Римской империи. Тетрархия существенно устранила прежние непорядки и сумятицу в престолонаследии: отныне ни сенат Рима, ни преторианцы более не могли предопределять фигуру нового императора, поскольку у действующих государей уже были официальные преемники. Как следствие, сенат Рима фактически превратился в обычный городской совет, а сам Вечный город по политическму статусу уравнялся со столицей рядовой имперской провинции.
Вторая особенность напрямую связана с отношением к христианству в семье св. Константина. Его мать св. Елена была тайной христианкой и, очевидно, сумела привить сыну первую любовь к неведомому и непонятному римскому миру Богу. Его отец также явно отличался от своих товарищей редкой религиозной терпимостью в целом и к христианам в частности. Есть все основания полагать, что и вторая жена Констанция – Феодора, и его дочь от второго брака Анастасия также были христианками38.
Находясь долгое время при дворе василевса, св. Константин не мог хотя бы поверхностно не ознакомиться с первоосновами этого учения, а также не замечать многочисленных и торжественных христианских собраний, которые открыто проводились на Востоке. Достаточно сказать, что вплоть до гонений напротив императорского дворца в Никомидии, где резидентировал Диоклетиан, располагался большой христианский храм, где регулярно проходили богослужения39.
Но именно на времена правления Диоклетиана приходится очередное, весьма жестокое гонение на христиан, инициированное императором «по подсказке» Галерия, жестокого заступника старых отцовских культов. Как расказывают, Галерий происходил из простой крестьянской семьи и в детстве был волопасом. Исполинского телосложения, с уголоватыми манерами и грубыми вкусами, надменный и невежественный, алчный и жестокий, он обладал природным здравым смыслом и яркими талантами организатора и полководца. К несчастью, под влиянием своей матери – грубой крестьянки-язычницы, люто ненавидевшей христиан, Галерий поставил перед собой цель совершенно извести сторонников этой религии40.
По ненависти к христианам от него не отставал и Максимиан Геркулий. В 286 г. Диоклетиан поручил ему подавить мятеж в Галлии, во главе которого стояли два новоявленных вождя Элиан и Аманд. Поскольку крупных соединений вблизи этих мест не наблюдалось, Геркулий срочно вытребовал легионы из других частей Империи, определив пунктом сбора Северную Италию. В сентябре 286 г. он уже преодолел Пеннинские Альпы и вышел к Женевскому озеру, где приказал организовать торжественные жертвоприношения. Очевидно, они сопровождались клятвой верности, которую все солдаты и офицеры должны были принести ему перед началом решающих сражений. Но для христиан это означало отречение от Христа, на что соглашались идти далеко не все.
Первыми отказались от совершения языческого обряда легионеры Фиванского (египетского) легиона, целиком, до последнего человека, состоявшего из христиан. Командовал этим легионом св. Маврикий (память 22 сентября). Разгневанный и подозрительный Геркулий, решив, будто фиванцы решили ему изменить, приказал провести децимацию – казнить каждого десятого солдата по жребию. Однако легионеры смиренно приняли смерть, а оставшиеся их товарищи подтверили отказ от жертвоприношения. В ответ Геркулий приказал провести децимацию вторично, однако и это не помогло. Тогда по его приказу всех оставшихся легионеров солдаты-язычники из остальных частей буквально изрубили мечами; погиб и легат легиона св. Маврикий, который ныне является покровителем немецкого города Кобург41.
Заметим попутно, что в те дни вершились не только массовые трагедии, но и личные: желая укрепить влияние, Галерий настоял на том, чтобы Диоклетиан выдал свою дочь св. Валерию, тайную христианку, помимо ее воли за себя. Свадьба состоялась, и можно лишь догадываться о мучениях, которые испытывала юная женщина в эту эпоху страшных гонений. Исключение из общей массы гонителей составлял, по словам биографа св. Константина Великого Евсевия Памфила, епископа Кесарийского (около 260—340), только отец будущего первого христианского императора Рима Констанций.
В то время, когда его соправители «нападали на церкви Божьи и разрушали их сверху донизу, а дома молитвы истребляли до самого основания, он сохранил свои руки чистыми от такого гибельного нечестия и никогда не уподоблялся им»42.
Впрочем, и помимо Констанция у христиан было множество тайных и явных защитников среди окружения императора, в армии и во влиятельных аристократических кругах. Удивительно, но даже в самый разгар гонений сам Диоклетиан вынужден был терпеть у себя в семье двух христианок – будущую святую мученицу царицу Александру и дочь св. Валерию, также впоследствии стяжавшую мученический венец. Но они не обладали административными возможностями, как Констанций.
Евсевий нигде не упоминает о крещении Констанция Хлора, что, впрочем, еще ничего не означает, поскольку публичная огласка этого факта, если он действительно имел место, могла бы иметь для него катастрофические последствия. Как минимум его карьера была бы окончена, если не сказать более. Все же, по-видимому, внешне он оставался верным государственному языческому культу, хотя и оказывал тайное содействие гонимым христианам43. А то снисхождение к ним, которое он неоднократно демонстрировал, связано с мягким и добрым характером западного правителя и его религиозной терпимостью. Как мы увидим, св. Константин в полной мере заимствовал у отца лучшие черты характера, в том числе и уважение к свободе совести человека.
Тетрархия закладывалась Диоклетианом как плод рациональной и прагматичной римской мысли – из всех возможных вариантов он выбрал тот, который казался ему наиболее эффективным. И эта система вовсе не предполагала в качестве своего обязательного элемента дружбы между цезарями и августами. Каждый из них стремился к некоторым дополнительным гарантиям для себя, в связи с чем еще совсем молодым человеком св. Константин стал в буквальном смысле слова заложником у Диоклетиана, а потом у его преемника, со временем почти получившего абсолютную власть в свои руки – Галерия, наиболее яростного гонителя христиан. Будучи высоким красивым юношей, св. Константин, по словам древнего историка, уже тогда производил впечатление царственной особы, отличался физической силой и явно превосходил своих сверстников разумом и способностями к наукам. Сверстники опасались конфликтовать с ним. Да что там сверстники – юного св. Константина боялся сам Галерий, которому было предсказание, будто сын Констанция уничтожит его могущество44.
Юноша отличался отменной храбростью, вместе с Диоклетианом он предпринял ряд военных походов, где блестяще себя проявил как воин и командир. В это время ему уже перевалило за 30 лет, и он состоял в должности трибуна первого ранга. За свои успехи и мужество св. Константин принял участие в триумфе императора, находясь, что называется, в «близком круге» царя.
Между тем с уходом в отставку больного Диоклетиана, на которой настоял Галерий, используя какие-то свои, беспроигрышные аргументы, борьба за власть приняла еще более рельефные очертания. Опасаясь – и не без оснований – козней со стороны недругов отца, св. Константин воспользовался удобным случаем и вернулся к родителю, находившемуся уже пред вратами Небесного Царства.
История этого бегства не лишена интереса. Галерий, опасавшийся в своей борьбе за единовластие в Риме только августа Констанция, совершенно не собирался давать свободу его сыну. Но Констанций направил ему письмо, в котором умолял разрешить повидаться с сыном перед смертью, которая уже стояла за его плечами – он был действительно тяжко болен. Галерий внешне согласился – все-таки формально они были равны в статусе и не выносили свои разногласия на людской суд – и сделал предварительные распоряжения, надеясь, что утром найдет необходимые причины, якобы препятствующие отъезду св. Константина. Но последний использовал этот практически единственный шанс и, начав свой путь на Босфоре, пересек пролив, добрался до Дуная, прошел через Альпийские перевалы и закончил свое путешествие на равнинах Шампани, где располагалась ставка Констанция. Констанций с сыном благополучно переплыли Ламанш и обосновались в Британии. Галерий был в ярости, но поделать уже ничего не мог45.
Святой Константин прибыл к отцу вовремя: спустя год тот скончался, и после похорон Констанция войско провозгласило св. Константина августом, «подправив» Диоклетиана, незадолго перед этим не решившегося поставить св. Константина цезарем46. Юный правитель Запада направил уведомление об этом Галерию, обосновав в письме свое преемство покойному отцу. Галерий физически не мог воспрепятствовать этому факту и, кроме того, видимо, надеялся, что варварские волны, систематически захлестывавшие римские территории, сами собой устранят опасного конкурента. Галерий полагал также, что даже в самом оптимистичном для св. Константина варианте тот не сможет сохранить свои провинции в безопасности. Как следствие, его авторитет оказался бы навсегда подорванным.
Но, столкнувшись один на один с трудностями, св. Константин явил себя отличным воином и великолепным, талантливым полководцем. Он разбил германцев, затопивших Галлию, и обратил свой взор на дикие британские народы, которые также быстро подчинил себе, или, что вернее, вернул под юрисдикцию Рима.
Надо сказать, что ситуация в государстве в политическом плане за этот короткий промежуток времени существенно изменилась. В октябре 306 г. в Риме поднялось восстание, и «Вечный город» отверг власть Галерия, недовольный длительным отсутствием августа в древней столице государства. По-видимому, не последнюю роль сыграл сенат, крайне недовольный уменьшением его власти при Диоклетиане. В результате Галерий потерял Италию. На первое место в числе соправителей Империи внезапно вышел Макценций (305—312), сын Максимиана, формально находившегося в отставке вместе с Диоклетианом, но на деле тайно помогавшего сыну и имевшего амбициозные планы на будущее.
Галерий и Север попытались воспрепятствовать излишне честолюбивому конкуренту, но их походы завершились катастрофой. Вначале, по просьбе Галерия, поход на Рим начал Север, но его войско было разбито, а сам он взят в плен Максимианом уже под Равенной. Вскоре ему был вынесен смертный приговор, и Север, найдя утешение в легкой смерти, вскрыл себе вены. Тогда в дело вступил сам Галерий. Но набранная им в Иллирии огромная армия дошла лишь до города Нарни, что находился в 60 км от Рима. Там Галерий осознал безуспешность своего предприятия и затеял мирные переговоры, не увенчавшиеся успехом47. Не без труда Галерий вернулся в свою восточную столицу.
И все же Максимиан и Макценций чувствовали необходимость в надежном союзнике, которым, естественно, мог быть только св. Константин. Но и правитель Запада не мог отказать им в этом предложении – в противном случае он был вынужден в одиночку воевать с Галерием. Политический союз скрепился в 307 г. браком св. Константина с Фаустой, дочерью Максимиана, что через много лет принесет свои трагические плоды, которых мы коснемся несколько позже. Но тогда это соглашение, заключенное в Карнунте, закрепило политическую расстановку сил.
Увы, оно, как и многие другие политические договоры, существовало недолго. Став главой Рима, Макценций совершенно не собирался считаться с властью отца, который в один прекрасный день обнаружил, что является едва ли не номинальной фигурой на фоне собственного сына. Трибунал, в который он обратился, отдал предпочтение Макценцию. Спасаясь бегством, отец был вынужден отправиться в Иллирию, к Галерию, который, конечно, его не принял. Убегая уже от Галерия, который пожелал умертвить отца своего врага, Максимиан спешно перебрался в Галлию, под защиту св. Константина, который вместе с Фаустой радушно принял его. Таким образом, Макценций фактически стал узурпатором, отнявшим власть у собственного отца, а также причиной прекращения действия ранее заключенного четырехстороннего соглашения48.
Легко принять славословия историков в адрес св. Константина как обычный прием антитезы при описании его достоинства на фоне многочисленных пороков врагов. Но в данном случае объективно Макценций олицетворял все негативное, что мог придумать даже видавший виды Рим. В то время как Галлия под правлением св. Константина наслаждалась спокойствием и благоденствовала, Италия и Африка страдали под властью Макценция. Писатели единогласно утверждают, что новый правитель Рима был жесток, жаден и развратен.
Например, подавив незначительное восстание в Африке, во главе которого стоял губернатор провинции с немногочисленной группой соратников, Макценций обрушил свой гнев целиком на всю область, которая была опустошена огнем и мечами его солдат. Многочисленная армия наушников и шпионов без устали «открывала» новые связи разоблаченных заговорщиков, вследствие чего гибли невиновные, но очень обеспеченные люди, имущество которых конфисковали. В самом Риме Макценций совершенно утратил стыд и открыто преследовал симпатичных женщин, в том числе жен и дочерей сенаторов. Как и полагается в таких случаях, отказы в домогательствах Макценцием не принимались. Армия не отставала от своего повелителя, а он втайне потворствовал ее грабежам и насилиям. Наконец, Макценций заявил, что в действительности только он один является императором Рима, а остальные правители – не более чем его временные наместники в провинциях. Война становилась неизбежной49.
К сожалению, и внутри семьи св. Константина было не все спокойно, а одно печальное событие ускорило начало военных действий, родив формальный, но столь желанный для Макценция предлог для объявления войны. Старый соправитель и товарищ Диоклетиана не отличался большим благородством и щепетильностью – черты характера, вполне унаследованные его детьми Фаустой и Макценцием. В 310 г. Максимиан организовал неудавшийся заговор против св. Константина, целью которого являлось физическое устранение того от власти – проще говоря, убийство. Воспользовавшись временным отсутствием западного августа, он распространил слухи о его гибели и без затей положил свою руку на царскую казну. Конечно, св. Константин быстро восстановил положение дел, захватив в плен незадачливых заговорщиков и предав их суду. Приговор был скор и справедлив, но до публичной казни дело не дошло: с тайного ведома св. Константина Максимиан повесился50.
Но для Макценция это была большая удача. Разыграв сыновье горе, он объявил войну св. Константину. Однако тот не собирался отсиживаться в пассивной обороне и решил опередить своего соперника, перенеся театр военных действий в Италию. Накануне военных действий, хотя и без некоторых оговорок, образовались следующие коалиции – св. Константин и Лициний – преемник Севера, с одной стороны, Макценций и Максимин Даза – с другой.
Как пишет историк, подготавливаясь в 312 г. к походу, св. Константин серьезно задумался о том, у какого бога искать покровительства, из чего можно сделать два важных вывода. Во-первых, что сам молодой август был тогда еще равнодушен к учению Христа и если и не организовал гонения на христиан по примеру других цезарей, то, скорее, по природной своей мягкости и благородству, чем по религиозному убеждению. И, во-вторых, что языческий культ уже не устраивал св. Константина. Очевидно, по складу своего характера это был не только рассудительный человек (обыкновенно люди не склонны размышлять об основах традиционного для их семьи и общества вероисповедания), но и человек духовно богатый, чья душа искренне стремилась к познанию Божества. В целом это был далеко не «средний» человек, и уж во всяком случае, человек искренних убеждений.
Сегодняшнему секуляризированному сознанию, воспитанному на скудных строках учебных пособий, невозможно представить себе во всей полноте картину личного воцерковления человека, тем более, когда такое воцерковление приходилось на языческие времена императоров – гонителей христианской веры. Казалось бы, до нас дошли лишь слова, поведавшие о том, что-де перед решающей битвой с Макценцием у стен Рима или даже ранее (по Евсевию Памфилу) св. Константин узрел во сне Божье предзнаменование, после чего повелел изготовить специальное знамя – лаборум, а изображение креста нанести на щиты воинов. А после победы, убедившись во всемогуществе Бога, сделал все зависящее от него для прекращения гонений и воцерковлению всей Римской империи. Однако за внешними следами этих великих в действительности событий, перевернувших ход человеческой истории, остались внутренние размышления, соблазны, выбор пути к истинному Богу.
Сверхсобытие – христианизация Римской империи, величайший дар Божий людям, не мог не обойтись без аналогичных по своей силе и напряжению усилий Его врага по предотвращению крайне нежелательного для него результата. Конечно, св. Константин снискал и величайшую милость, через которую приобрел силы для этого исторического во всех отношениях решения, но кто напишет сейчас о тех соблазнах, которые он должен был преодолеть в своем сердце на пути к нему? Кто способен передать ту гамму чувств и силу воли, чистоту души и благородство помыслов человека, откликнувшегося на стук Бога в его сердце?
Это личное решение непросто даже для рядовых лиц, вошедших во врата церковной ограды и впервые приступивших к Святым Дарам. Насколько же труднее оно далось царственному мужу, для которого верный выбор означал не только личное утверждение в праведной или неправедной вере, но напрямую был связан с судьбой самого Римского государства. Ведь, как известно, античное сознание не отделяло благосостояние своего отечества (равно как и собственное) от приверженности истинному или ошибочному культу.
Попытаемся раскрыть внутреннее состояние человека, положившего на чашу собственного выбора не только собственную судьбу, но и всю историю Рима. Представим себе императора, который был убежден в том, что с его именем в случае ошибки потомки – если таковые вообще останутся – будут связывать самые горькие страницы существования Римской империи. Не царь – освободитель Рима от тирана Макценция, а неудачливый молодой и самоуверенный наглец, опровергнувший отеческие традиции и верования, ниспровергатель государственных устоев и виновник гибели государства – такие оценки снискал бы он в этом случае со стороны соотечественников, замарав свой род и фамилию на вечные времена. А печальные примеры Севера и Галерия, предавших себя в руки языческих богов, но оттого не снискавших славы на поле брани, были очень свежи и не могли не озадачить св. Константина.
С другой стороны, воспоминания детства и отрочества, проведенные вблизи христиан, и как минимум пример своей матери св. Елены – ревностной христианки сыграли свою положительную роль, хотя об этих факторах, очевидно повлиявших на св. Константина, историки не повествуют. Впрочем, этот вывод легко напрашивается на ум, исходя из контекста предыдущих событий из жизни западного августа.
О долгих размышлениях молодого василевса недвусмысленно повествует Евсевий, который долгие годы состоял при особе императора и писал биографию царя буквально «с оригинала». «При решении сего вопроса (то есть к какому богу обращаться с мольбами о ниспослании успеха его начинаниям. – А. В.) ему пришло на мысль, что немалое число прежних державных лиц, возложив свою надежду на многих богов и служа им жертвами и дарами, прежде всего бывали обманываемыми льстивыми оракулами, обольщались благоприятными предсказаниями и оканчивали свои дела неблагоприятно. Только отец его шел путем, тому противным. Видя их заблуждения и во всю свою жизнь чтя единого верховного Бога всяческих, он находил в Нем спасителя своего царства, хранителя его и руководителя ко всякому благу»51. Возможно, Евсевий немного преувеличивает, говоря, будто св. Константин «всю жизнь» чтил Христа. Правильнее сказать, что впоследствии служение Христу станет для него смыслом жизни. Но перед войной в Италии царь еще не был христианином.
Прийдя к указанному выше умозрительному – пока еще – выводу, св. Константин удостоился, по его собственным словам, Божьего знамения в виде креста с надписью «Сим побеждай!». Как следует из описания Евсевия, по-видимому, молодой полководец не придал этому большого значения. Но ночью ему явился Сам Христос, повелевший сшить знамя, подобное виденному на небе, и употреблять его для защиты от врагов. Это был решительный перелом в сознании молодого царя. Как цельная натура, он сделал окончательный для себя выбор. История христианской Церкви получила своего первого, но очень деятельного защитника и сподвижника в лице представителя верховной власти Римской империи. Царь не ограничился формальным следованием христианству, когда человек «на всякий случай» использует священные символы в качестве некоего тотема, должного наряду с языческими богами оберегать его – примеры такого религиозного «плюрализма» были вполне свойственны прежним римским императорам.
Святой Константин отдал свое сердце Христу сразу и целиком. С похвальной ревностью он принялся познавать первоосновы христианства. Перед походом наш герой не просто предложил служить при себе иереям-христианам, но и сам начал изучать Святое Писание. После этого св. Константин считал подготовку к походу практически завершенной в духовном отношении52.
Молодой христианский правитель не ошибся в своих надеждах. Богатства благодати, щедро изливаемые по силе веры на него Богом, компенсировали ту разницу в силах, которая объективно должна была предопределить печальные для св. Константина результаты кампании. В реальной войне решает не только дух войска, но и стратегические, объективные факторы, включая, конечно, численность и вооружение армии. Однако Господь, давший в руки св. Константина судьбу христианской Церкви, явил множество знамений, должных успокоить и ободрить царя, вселить в него уверенность в задуманных начинаниях.
Как повествуют исследователи, соотношение сил было явно не в пользу будущего единовластного христианского императора Рима. Ядром армии Макценция являлась тяжелая, закованная в броню азиатская кавалерия, сметавшая все на своем пути, и обновленная преторианская гвардия – элитные войска Империи, которая вместе с остальными подразделениями насчитывала около 80 тысяч человек. Еще 40 тысяч воинов были набраны из воинственных племен Северной Африки, и их боеспособность нельзя было преуменьшать. В случае необходимости Макценций мог мобилизовать в короткий срок еще почти 70 тысяч солдат. В целом под его рукой состояло около 180—190 тысяч человек, тщательно экипированных и хорошо вооруженных.
Святой Константин располагал куда более скромными силами – не более 100 тысяч бойцов, из которых почти половина несла гарнизонную службу в Британии и на Рейне. Только 40 тысяч легионеров могли использоваться св. Константином в оперативных целях. Но это были истинные бойцы, дисциплинированные и организованные, прошедшие со своим полководцем многие войны, ветераны сражений, беспредельно преданные ему53. Впрочем, при всех сопутствующих обстоятельствах этого было недостаточно для успеха в этой тяжелой войне.
Все было против св. Константина, победа его казалась невероятной. Тем не менее немного забежим вперед, невозможное стало возможным. По словам историков, самому Ганнибалу или Юлию Цезарю никогда так не везло, как св. Константину. Его решения были будто продиктованы свыше, а глаза противников словно застлала темнота неведения. Действия василевса поражали своей гениальностью и остротой, любые его распоряжения были своевременны и точны. Напротив, Макценций как будто добровольно делал все для того, чтобы проиграть эту долгожданную для себя войну. Он распылил основные силы, восстановил против себя Рим и самоуверенно выжидал противника, видимо, абсолютно убежденный в неизбежности своей победы. Войско св. Константина было сковано одной волей, могучим кулаком; Макценций выставил навстречу ему раскатанное по столу тесто, кусками бросая его в наступающего противника.
Все это можно было бы отнести на естественный ход вещей, если бы Макценций являлся неопытным юнцом. Но он был далеко не начинающий военачальник, и окружали его боевые полководцы, совсем недавно без труда справившиеся с Севером и Галерием. Впрочем, св. Константин и его сторонники сами открыто признавали, что на их стороне была Сверхъестественная Сила. «Они всегда говорили, что это была особая, исключительная удача, ниспосланная свыше, намного превосходящая обычное человеческое везение. То был перст Божий»54.
Не успел Макценций определить план кампании, как св. Константин с войском перешел Альпы, подобно Ганнибалу, и разбил встречные отряды Макценция под Турином, который немедленно открыл свои ворота на милость победителя. Вслед за Турином пал Милан – политическая столица Римской империи. Под Вероной св. Константин после очень упорной битвы разгромил одного из полководцев Макценция, Руриция, вслед за чем сдалась упорная Верона55. Скорость продвижения армии св. Константина по Италии поражала современников, и вот уже его легионы бодро маршируют по знаменитой Фламиниевой дороге, ведущей прямо в Рим. Попутно св. Константин направил свой флот, занявший острова Сицилию и Сардинию, чем, во-первых, лишил Рим подвоза продовольствия – крайне болезненное для Вечного города событие; а, во-вторых, не позволил противнику надеяться на прибытие пополнений из Африки56.
Армия Макценция заняла удачную позицию на реке Тибр рядом с Мальвийским мостом, но св. Константин не стал ждать, и его армия прямо с марша, буквально перестраиваясь на ходу, обрушилась на превосходящие силы противника. Спустя некоторое время тот дрогнул и стал беспорядочно отступать, причем сам Макценций утонул в Тибре при бегстве. 28 октября 312 г. св. Константин с войском вступил в Рим. Таким образом, на всю победоносную и стремительную кампанию, которой мог бы позавидовать любой полководец, св. Константину понадобилось всего 58 дней57. Сенаторы оказали ему почести, которыми ранее награждались только избранные, и приняли решение о старшинстве св. Константина из трех оставшихся правителей (помимо Лициния и Максимина Даза), управлявших Римской империей58.
Это было действительно чудо, явственно явленное Богом через Своего царственного избранника. Не случайно в текстах Евсевия об этой победе св. Константин постоянно уподобляется легендарным библейским героям: «Как во времена Моисея и благочестивого некогда народа еврейского, Бог ввергнул в море колесницы фараона и войска его, и в Чермное море погрузил отборных всадников тристатов (Исх. 15, 45), так, подобно камню, пали в глубину Макценций и бывшие с ним гоплиты и копьеносцы. Между тем, как (св. Константину. – А. В.) помогал сам Бог, – тот жалкий человек, лишившись Его помощи, тайными своими хитростями погубил самого себя»59.
Вскоре св. Константин покинул Рим и отправился на встречу с Лицинием в Милан. Тогда же в Милане в 313 г. был издан знаменитый эдикт о веротерпимости, среди подписантов которого числились св. Константин, Лициний и Галерий. Диоклетиан также получил приглашение приехать на эту торжественную церемонию, и его подпись, безусловно, придала бы больший вес и торжественность этому документу, но, сославшись на нездоровье, некогда могущественный владыка отклонил приглашение. Отказался от подписания документа и Максимин Даза – август азиатских владений Римской империи, оставшийся верным языческому культу. Но яростный гонитель христиан Галерий, под конец жизни решивший в такой форме хотя бы частично загладить свою вину перед Церковью, поддержал св. Константина. Впрочем, после этого он прожил недолго и умер от какой-то страшной болезни – то ли от рака, то ли от широко разлившейся по телу гангрены. Интересно, что еще в 311 г. он, мучимый страшной болезнью, инициировал эдикт о веротерпимости, в котором просил христиан помолиться их Богу о его спасении и о благополучии Римского государства60. Но вернемся к документу 313 г.
«С давних пор считая, – говорится в эдикте, – что не следует стеснять свободу богопочитания, но, напротив, надо предоставлять уму и воле каждого заниматься Божественными предметами по собственному выбору, мы издали повеление как всем другим, так и христианам хранить свою веру и свое богопочитание… Угодно нам совершенно отменить… распоряжения относительно христиан, весьма нелепые и несовместимые с нашей кротостью. Отныне всякий, свободно и просто выбравший христианскую веру, может соблюдать ее без какой бы то ни было помехи»61. Вроде бы такой религиозный плюрализм противоречил традициям Рима, где религиозный культ имел государственное значение. Но внешнее противоречие – свобода совести и потребность в наличии государственного культа, на место которого очень скоро и окончательно придет христианство, – разрешилось просто. Еще не крещенный и даже не оглашенный, св. Константин Великий, не желающий применять насилие над духом своих подданных, фактически сделал все для того, чтобы естественное превосходство духа и слова Православия над другими религиями при отсутствии внешних стеснений вскоре завоевало доминирующие позиции62.
Далекий от тщеславия, св. Константин не сомневался в том, по Чьей великой помощи одержана им победа, и по прибытии в Рим тотчас вознес благодарственную молитву Богу. Посреди города он воздвиг тот священный символ – знамя, который ему указал изготовить Христос, явившийся во сне перед походом на Макценция, и начертал, что «сие спасительное знамя есть хранитель римской земли и всего царства». Когда же на самом людном месте Рима поставили ему статую, он немедленно приказал то высокое копье в виде креста утвердить в руке своего изображения и начертать на латинском языке слово в слово следующую надпись: «Этим спасительным знамением, истинным доказательством мужества, я спас и освободил ваш город от ига тирана и, по освобождении его, возвратил римскому сенату и народу прежние блеск и славу»63.
Очень точные слова! Святой Константин откровенно признался, что истинным мужеством с его стороны были не многочисленные, молниеносные победы над врагом, а тот выбор в пользу истинного Бога, который он сделал перед кампанией.
Надо сказать, поведение св. Константина в части обеспечения религиозной свободы и восстановления нарушенных материальных прав христиан было очень последовательным. Очевидно, он решительно стал на путь собственного воцерковления и являл многочисленные образцы христианского милосердия и сострадания, помогая всем нуждающимся и обремененным. Завладев Италией и присоединив ее к своим владениям, он не стал заносчивым и жестокосердным, являя удивительные образцы терпения и мягкости. Некоторые в Африке, приводит характерный пример историк, дошли до настоящего безумства и, ведомые демонами, делали все, что смогло бы привести в ярость любого правителя, только не св. Константина. «Поступки их василевс нашел смешными и говорил, что они рождены под влиянием лукавого, поскольку такие дерзости свойственны не здравомыслящим, но совершенно помешанным людям, либо по наущению лукавого»64.
Наряду с этим к тому времени св. Константин еще не принял таинства Святого крещения, что вполне объяснимо. В практике древней Церкви поздние, почти предсмертные Крещения были обычным явлением. Как представлялось, в таком случае человек окончательно освобождался от грехов, поскольку, по христианскому вероучению, таинство Крещения смывает все ранее совершенные грехи. Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что вхождение в Церковь в те давние времена было величайшим событием для человека. К погружению в крестильную купель готовились годами, проходя через разряд оглашенных и духовно очищаясь.
Наконец, как император Рима, св. Константин в силу должности царя воспринял традиционный титул pontifex maximus. И, как верховный жрец римского народа, он, безусловно, должен был принимать участие в языческих культовых обрядах, хотя бы и в качестве наблюдающей стороны. Публичное крещение в такой момент времени могло войти в жесткое противоречие с обязанностями pontifex maximus, а поскольку христиане тогда еще были в Риме в явном меньшинстве, легко было предположить негативную и острую реакцию языческих толп и самого сената на это событие.
Замечательно наблюдать, как линия поведения св. Константина по отношению к представителям различных конфессий копировала политику его отца. С той только разницей, что все его симпатии были на стороне христианских общин. В эти годы, когда св. Константин формально был всего лишь одним из трех оставшихся соправителей Рима, хотя и обладал величайшим авторитетом, открывается новая стадия в становлении Православной Церкви.
В 313 г. клирикам был предоставлен иммунитет, и они избавились от несения общественных повинностей. В постановлении проконсулу Африки Анулину император пишет: «Мы желаем, чтобы, по получении этой грамоты, ты немедленно приказал вернуть христианам Кафолической Церкви в каждом городе или других местах все, что им принадлежало и что теперь находится во владении или граждан, или иных лиц, ибо мы постановили вернуть церквам их прежнюю собственность»65.
В другом послании этому же чиновнику царь повелевает: «Лиц, находящихся во вверенной тебе провинции и состоящих в Церкви, отдавших себя на служение этой святой вере (обычно их называют клириками), желаю я раз и навсегда освободить от всех общественных обязанностей, дабы они не были отвлекаемы от служения Богу каким-нибудь обманом или святотатственным поползновением, но без всякой помехи исполняли свой закон. Если они будут служить Богу, – поясняет василевс, – со всей ревностью, то это принесет много пользы и делам общественным»66.
В 315 г. св. Константин освободил земли духовенства от обычных налогов, в этом же году отменил распятие в качестве способа смертной казни, а также постановил, что иудеи, возбуждающие мятежи против христиан, предаются сожжению. Святой Константин повелел возвратить всех христиан, находившихся в ссылке или на рудниках, восстановил их в общественных должностях (если таковые были ранее на них), вернул собственность мучеников за веру их наследникам, а если таких не оказывалось, то передавал Церкви67.
Эдикт от 23 июня 318 г. позволил всякому заинтересованному лицу переносить по взаимному соглашению с противной стороной гражданское дело на рассмотрение епископского суда, даже если данное дело уже слушалось к тому времени в обычном гражданском суде. Примечательно, что решение епископа по таким делам не подлежало обжалованию в высших судебных инстанциях. Эдикт от 5 мая 333 г. подтвердил безапелляционность епископского решения68.
В 319 г. двумя законами св. Константин запретил частные жертвоприношения и языческие гадания, но сохранил общественные обряды. Разумеется, эти действия никак нельзя квалифицировать, как гонения на язычество, как иногда пытаются представить. Такие жесткие и категоричные меры в то время, когда подавляющая часть населения Империи еще не принадлежала к христианской Церкви, никак не могли быть безболезненно восприняты римскими гражданами. Исследователи точно замечают, что консерватизм, доведенный до абсолюта, и крайний формализм являлись природными чертами латинян. В римской религиозности главным являлась не вера, а сам культ, внешнее отношение к божеству. Римляне чествовали богов не по любви, а в силу правового и политического обычая. В Риме сама государственность являлась предметом религиозного культа, а жрецы, понтифики и фламины были государственными чиновниками. Заявить в этих условиях, будто языческие культы упраздняются – то же самое, как громогласно объявить о кончине самого Римского государства69.
В 321 г. царь издал эдикт о всеобщем праздновании воскресного дня: земледельческие работы разрешались, но в городах и в армии все работы отменялись, прекращалась всякая торговля, дела и даже судопроизводство. В этом же 321 г. Церкви было разрешено получать имущество по завещаниям, чем резко увеличивалось ее благосостояние70.
В области свободы совести он держался твердой срединной линии, не насилуя чужую совесть и не принуждая никого к переходу к христианству. Его личный пример был эффективнее любого принуждения. Святой Константин решительно участвовал в делах церковного управления, являя замечательную ревность по вере. Он всячески увещевал своих подданных принять христианство, но тут же требовал, чтобы желание это было искренним, без какого-либо принуждения71.
Константин приказал строить храмы размеров, позволяющих посетить их всем желающим; запретил изображения богов и государственные жертвоприношения. Чиновникам же было предписано воздерживаться от языческих обрядов72. Сам св. Константин отказался от титулатуры divius («божественный»), традиционной для языческих Римских императоров, его предшественников, и в 325 г. запретил выставлять свои изображения в христианских храмах.
Позднее, в 326 г., последовало указание о запрете восстанавливать разрушенные языческие храмы. Запрещены были и изображения языческих богов. Храмы одиозных, безнравственных культов подлежали закрытию в обязательном порядке73.
Некоторые действия царя по прекращению языческого культа иногда в литературе подвергаются критике, на самом деле едва ли обоснованной. Государственные чиновники всегда и во все времена несут определенные ограничения, связанные с их должностью. В этой связи нет ничего удивительного в том, что император запретил своим подчиненным участие в культах, которые шли вразрез с политикой самого василевса и его мировоззрением. Для IV в. это, прямо скажем, было небольшим ограничением.
Запрет частных жертвоприношений, обрядов и гаданий не вызвал гневной реакции у населения, поскольку уже тогда они считались искажениями государственной религии, и их отмена только способствовала укреплению ее самой. Более того, даже обязательное для прославления Бога воскресенье рассматривалось подданными императора как установление им нового праздничного дня, что входило в его компетенцию как первосвященника74.
Опасаясь «ревности не по разуму» некоторых христиан, усмотревших в новых веяниях войну язычеству, св. Константин в 324 г. издал еще один эдикт, в котором обратил внимание на малоценность и непрочность вынужденных насилием обращений в новую веру75.
К свободе убеждений язычников он относился с самой широкой терпимостью. Но совсем не так обстояло дело с еретиками. Избегая первоначально вмешательства в область религиозных догматов, желая мира в Римской империи, св. Константин тем не менее по просьбе архиереев и в целях спокойствия Церкви и государства вскоре был вынужден принимать меры против донатистов. В частности, для искоренения этой ереси и успокоения Церкви по его инициативе были собраны Римский собор 313 г. и Арльский собор 314 г. «Имея особенное попечение о Церкви Божьей, он, в случае взаимного несогласия епископов в различных областях, действовал как общий, поставленный от Бога епископ, и учреждал Соборы служителей Божьих, даже не отказываясь являться и заседать сам среди сонма их и, заботясь о мире Божьем между всеми, принимал участие в их рассуждениях»76.
Интересны и мотивы действия императора, излагаемые в его актах, и та непосредственность в управлении делами Церкви, демонстрируемая им. «Уже давно, – излагает он существо вопроса, – некоторые люди стали отходить от почитания святой небесной Силы и от Кафолической Церкви. Желая положить конец этим ссорам, я распорядился пригласить из Галлии некоторых епископов, а также вызвать из Африки постоянно и упорно спорящих друг с другом представителей враждебных сторон, чтобы в общем собрании и в присутствии Римского епископа вопрос, вызвавший это смятение, можно было тщательно обсудить и уладить». Епископу Сиракузскому Христу, которому и направлено данное письмо, приказывается собрать множество епископов из разных мест, а также дается разрешение воспользоваться государственной почтой. Епископу Карфагенскому Цецилиану велено также собрать епископов, и для обеспечения дорожных и иных расходов архипастырей ему была выделена значительная сумма77.
Всем сердцем приняв главную заповедь Христа – любить ближнего, св. Константин последовательно и системно перерабатывает законодательство Римской империи под христианскую этику. Например, император начал очень жесткую борьбу с доносчиками. В 313, 319 и 335 гг. он принимает три закона, в которых за данное преступление вводится смертная казнь. Безусловно, в основе этих законоположений лежат религиозные мотивы, особенно они заметны по тексту закона 319 г., где царь называет деляторство «величайшим злом человеческой жизни». По справедливому мнению исследователей, в борьбе с сутяжничеством выражается взгляд христиан на закон как на неизбежное зло, чрезмерное рвение в употреблении которого, да еще и в корыстных целях, есть тяжкий грех78.
В 315 г. вышел запрет на клеймение лица преступников, так как, указывает св. Константин, они сотворены по образу небесной красоты. Отменено распятие как вид смертной казни, а судам дается указание на обязательную замену такого наказания для преступников, как отдание их в гладиаторы или на съедение диким зверям79.
Особенно наглядно христианские начала проникли в область семейного законодательства. Законом от 318 г. император фактически отменяет старинное право домовладыки patria potestas – краеугольный камень римского права, согласно которому отцы семейства могли распорядиться по своему усмотрению жизнью и свободой детей. Святой царь уделяет много внимания таким преступлениям, как супружеская измена, или адюльтер, а женщин, виновных в этом грехе, он приравнивал к отравителям и убийцам. Невиданно ранее поднимается на равную высоту с мужчиной женщина.
Законом 321 г. установлена полная правоспособность женщины в 18 лет, она отныне способна выступать в качестве равноправного наследника имущества отца. А в 320 и 336 гг. выходят два эдикта, запрещающие человеку, находящемуся в законном браке, иметь еще и сожительницу (конкубину). Запрещается свобода развода, который теперь становится возможным только по конкретным основаниям. Также в 320 г. выходит закон, устанавливающий жесточайшие меры для похитителей девушек. Принимается закон о запрете кастрации и торговле евнухами. Преступники, нарушившие его, подлежали смертной казни, а евнухи – конфискации, ведь по римскому праву они считались такой же вещью, как и остальные рабы80.
Кроме этого, св. Константин изыскал средства для строительства христианских церквей. По преданию, император основал в Риме церковь Св. Иоанна в поместье своей жены Фаусты в Латеране, Св. Петра в Ватикане, Св. Павла за стенами города, в Иерусалиме храм Св. Креста, Св. Агнессы за Номентанскими воротами, Св. Лаврентия за стенами и Св. Марцеллина и Св. Петра за Porta Maggiore81.
Но помимо религиозных, у св. Константина были и политические дела, требовавшие его решительного вмешательства. Как указывалось выше, он недолго пробыл в Риме, который не очень любил «восточного» императора с его малопривлекательными для римлян привычками и склонностью к обеспечению явных преференций тем, кого еще вчера считали врагами общественной нравственности и царя – христианам. Уже через 60 дней после триумфа св. Константин, как указывалось выше, вернулся в Милан. Вскоре к нему явился Лициний для заключения брачного союза со сводной сестрой св. Константина Констанцией.
В это время Максимин Даза, ведомый приверженцами язычества, совершил внезапный налет на владения Лициния и после долгой осады захватил Византий – маленький город на берегах Босфора, будущий великолепный и величественный Константинополь. Увы, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»: Максимин явно не обладал способностями и талантами св. Константина. Быстро возвратившийся в свои провинции Лициний в упорной битве разгромил почти вдвое превосходящие силы Максимина, тот бежал и вскоре умер82. Говорят, пытаясь отравиться, он принял яд на полный желудок, но не скончался, а заработал тяжелую форму язвы кишечника, долго страдал и умер в мучениях. Христиане не без оснований видели в этом гнев Божий, излившийся на их гонителя.
Теперь у Римской империи осталось всего два августа – св. Константин и Лициний (265—325). Этот человек заслуживает несколько строк, позволяющих понять последующие события. Как отмечают историки, обоих августов связывали многие сходные страницы биографии. Оба выросли на Востоке (в Иллирии), оба испытали тяжесть солдатских будней, обоих отличали честность и верность данному слову. Лициний поддержал св. Константина в его войне с Макенцием, соблюдая дружеский союзнический нейтралитет. В ответ св. Константин, не желавший пользоваться искусственными привилегиями и стремившийся сохранить диоклетиановскую систему управления государством, перед Итальянской кампанией обещал тому руку своей единокровной сестры, дочери Констанция от второго брака. Женившись на ней, Лициний стал таким же равноправным наследником Констанция, как и сам св. Константин. Более того, св. Константин имел к тому времени только одного сына – Криспа (305—326), рожденного им от незаконного брака еще до свадьбы с Фаустой. Таким образом, в случае преждевременной смерти западного августа Лициний оказывался единственным законным наследником всех предыдущих соправителей Империи83.
Любопытно наблюдать, как оба августа старательно копировали друг друга, не желая ни в чем уступать своему сотоварищу. После победы над Максимином Даза, а война происходила в том числе на территории Армении, Лициний присоединил к своей титулатуре звонкое наименование «Armenicus Maximus». Но тут же св. Константин добавил и к своему имени «Armenicus Maximus», чтобы ни в чем не отстать от конкурента84.
Однако вскоре новая ситуация в Римской империи резко изменила умонастроения Лициния. Если до последнего момента их связывали со св. Константином почти дружеские отношения, то теперь он стал претендовать на первенство в дуэте августов. Повод для войны нашелся быстро. Во-первых, желая устранить возможных претендентов на царский трон, Лициний предал смерти детей Максимина Даза, а затем жену (св. Валерию – дочь царицы св. Александры), и Кандидиана, внука Диоклетиана, мольбы которого остались не услышанными им. Кроме того, Лициний вступил в политическую интригу с неким патрицием Вассианом, мужем другой единокровной сестры св. Константина, Анастасии. Почему-то Вассиан решил, что, как родственник св. Константина, он вправе заявить права на престол и западные провинции Римской империи. Но и этот заговор был своевременно раскрыт св. Константином, Вассиан бежал к Лицинию, который на все требования императора выдать ему беглеца отвечал высокомерным отказом. Война началась85.
В начале октября 316 г. св. Константин с войском перешел границу восточной части Римского государства, традиционным для себя быстрым маршем прошел по провинциям Лициния и близ города Цибал (ныне город Винковичи, что в Хорватии) 8 октября разгромил его войско. Хотя у св. Константина было не более 20 тысяч легионеров, а у его противника около 35 тысяч воинов, он первым бросил свою кавалерию в атаку и опрокинул конницу Лициния. Затем наступила очередь пехоты, добившейся большого успеха, – к концу сражения потери Лициния достигли 20 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако сам мятежный август ночью оставил свой лагерь и сумел скрыться со своей семьей и соединился с войсками дукса лимитанов в Дакии Валентом, которого возвел в ранг цезарей. В ноябре того же года противники вновь скрестили мечи в сражении на Мардийском поле, которое не дало успех ни одному из них86.
Как следствие, враги-друзья сели за стол переговоров. Их результатом стало отторжение шести балканских провинций, за исключением Фракии, от Лициния и передача под власть св. Константина. Помимо этого, стороны договорились, что св. Константин вправе назначать двух цезарей, а Лициний одного, чем еще более подчеркивалось превосходство св. Константина. Как ни странно, но этот мир продержался 9 лет87.
Нельзя, правда, сказать, что мирное время не сопровождалось конфликтами, способными в любой момент разрушить его. Стороны продолжали негласное соперничество за единовластие в государстве, чему способствовали некоторые новые обстоятельства. Через 8 лет после бракосочетания с Фаустой у василевса родился сын Константин, которого он наряду со старшим, 18‑летним незаконнорожденным сыном Криспом, назначил цезарем, используя свое оговоренное в соглашении с Лицинием право. Для того это был явный удар. В присутствии одного только Криспа Лициний имел еще возможности претендовать на единоличное императорское достоинство в случае смерти св. Константина, но маленький наследник перечеркнул эти надежды.
Правда, по примеру св. Константина Лициний также назначил цезарем своего 3‑летнего сына, рожденного от сестры св. Константина Констанции. Но шансы на преемство власти у порфирородного Константина, сына знаменитого императора и полководца, явно были выше. По некоторым данным, для сохранения собственного статуса и обеспечения будущих прав членов своей семьи Лициний начал переговоры со св. Константином о женитьбе Криспа на своей дочери, по-видимому, увенчавшиеся успехом88. По крайней мере, эта немаловажная деталь – если принять сведения о женитьбе Криспа в качестве истинных – сыграет решающую роль в скорых трагических событиях, которых мы коснемся далее.
Впрочем, это была невидимая для широкой массы сторона конфликта. А в публичной сфере, пожалуй, наиболее болезненным для св. Константина стал закон Лициния от 320 г., которым тот фактически отменил Миланский эдикт и начал новые гонения на христиан в своих провинциях. «Римская земля, разделенная на две части, кажется всем разделенной на день и ночь, то есть населяющие Восток объяты мраком ночи, а жители другой половины государства озарены светом самого ясного дня»89.
Лициний не был до конца последовательным в своих методах унижения христиан. Возможно, желая разнообразить способы уничижения их достоинства и требуя изначально невозможного, а быть может, наоборот, чтобы смягчить на первых порах реакцию на свои действия, но в один момент он повелел рукополагать женщин в священнический сан (!) якобы для уравнивания их с правами мужчин. В конце концов, Лициний дошел до казней христиан. В частности, при нем снискали мученический венец епископ Василий Амосийский, а затем были утоплены в Дунае после длительных пыток святые мученики Ермила и Стратоник90.
В Никополе Армянском были сожжены святые Леонтий и Сисиний, а с ними еще более 40 мучеников-христиан91. Надо сказать, что к тому времени христианство укоренилось в его окружении, поскольку многие казненные мученики являлись офицерами и солдатами армии Лициния. Вскоре его гонения приняли широкие масштабы, и современники говорили уже о массовых казнях христиан и закрытии церквей92.
К сожалению, св. Константин не имел возможности своевременно прореагировать на дерзкое нарушение Лицинием Миланского эдикта. В это время его мысли были заняты безопасностью Дунайских границ и берегов Рейна, где готы и алеманы вновь накопили грозную силу. Святой Константин выступил в поход, и Дунайская кампания по обыкновению наглядно продемонстрировала его величайшие дарования как полководца.
Наступая сплошным фронтом шириной 300 км, он нанес готам три сокрушительных поражения при Кампоне, Марге и Бононии, глубоко проник в земли даков, давно уже забывших римский закон, и вновь подчинил их Империи. Святой Константин был по-настоящему горд тем, что добился успеха там, где испытывал трудности сам великий Траян (98—117). Разгромив азиатские владения готов, потрясенных таким безнадежным для них исходом войны, св. Константин стал готовиться к войне с Лицинием. Формальным поводом к ней явилось то, что в ходе Готской кампании св. Константин зашел без разрешения Лициния на подчиненные ему территории93.
Небезынтересно обратить внимание на то, как духовно готовились оба августа к этой последней для одного из них войне. Лициний совершенно предался языческим богам, обосновывая это перед соратниками тем, что желает сохранить исконных богов Рима. «Настоящее откроет, – говорил он, – кто заблуждался в своем мнении, оно отдаст преимущество либо нашим богам, либо (богам) стороны противной». Он искренне недоумевал, почему «не понятно, откуда взявшийся Бог Константина» может быть сильнее тех, к кому ранее обращались за помощью их победоносные предки. Напротив, св. Константин и в этот раз предал себя в руки Бога, много молясь вместе со священниками Христу94. Бедный Лициний и не подозревал, что в грядущей войне не Макценций, не готы и даки, а именно он выступит в неблагодарной роли человека, о котором в 33-м псалме говорится: «Лице же Господне на творящия злая, еже потребити от земли память их».
Новая кампания началась в 323 г. В Фессалониках была определена точка сбора всем войскам, Крисп со своей армией срочно был отозван из Галлии, где находился все это время, и вскоре св. Константин имел под рукой уже около 120 тысяч воинов. Это было немалое войско, но численностью армия Лициния явно превосходила своих противников – под Адрианополем противник имел около 150 тысяч человек, и еще 150 тысяч азиатской конницы было в его распоряжении на случай необходимости. Здесь, под Адрианополем, и произошло генеральное сражение, в котором победа опять досталась св. Константину. Лициний потерял почти 34 тысячи воинов и постыдно скрылся за стенами многострадального городка Виза́нтия, который был осажден.
Но надежды Лициния на дополнительные силы оказались иллюзорными, а попытка снять блокаду с моря не увенчалась успехом. В очень тяжелом морском сражении малочисленный флот св. Константина под командованием Криспа одержал решительную победу95. Город был обречен, но самому Лицинию удалось с группой верных телохранителей незаметно покинуть его, и он благополучно добрался до небольшого городка Халкидона, где спешно занялся укомплектованием новой армии.
Вновь собранные Лицинием войска были мужественны, но совершенно необучены, и руководили ими слабые военачальники. Очевидно, его тяга к «отеческим гробам» была поколеблена, поскольку он сам убедился: там, где на поле боя появляется лаборум, войскам св. Константина неизменно сопутствовал успех. Лициний даже советовал воинам по возможности избегать встречи со священным символом христианской армии его противника, а святой император, напротив, направлял его туда, где его воины слабели и не могли дать решительный отпор врагу96.
Сам св. Константин долго и усиленно молился в своей палатке, что, по словам Евсевия, было для него обычным занятием. Видимо, он не раз удостаивался видения Христа, поскольку часто, подвигнутый Божественным вдохновением, выбегал из шатра и давал войскам соответствующие распоряжения. И Господь не оставлял Своего избранного слугу97. В битве у стен Хрисополя Лициний вновь потерпел ужасное поражение, положив на поле брани более 25 тысяч своих солдат.
Теперь спасти Лициния могла только сводная сестра св. Константина Констанция – жена проигравшегося игрока за власть. Наверное, под влиянием ее просьб св. Константин сохранил жизнь сопернику, отдав ему в правление Фессалонику – большей милости и снисхождения побежденному Лицинию трудно было ожидать. Но он и теперь не успокоился. Грезы несбывшихся надежд, жажда мести и ненависть к пощадившему его царю привели его к попыткам организовать новый заговор с участием готов, так же провалившийся, как и все предыдущие, – казалось, Господь во всем хранит Своего избранника. В 325 г. Лициний и его ближайшие сподвижники были казнены98.
«Итак, теперь, по низложении людей нечестивых, лучи Солнца не озаряли уже тиранического владычества: все части Римской империи соединились воедино, все народы Востока слились с другой половиной государства, и целое украсилось единовластием, как бы единой главой, и все начало жить под владычеством монархии. А славный во всяком роде благочестия василевс – победитель; ибо за победы, дарованные ему над всеми врагами и противниками, такое получил он собственное титулование, принял Восток и, как было в древности, соединил в себе власть над всей Римской империей. Первым проповедуя всем монархию Бога, он и сам царствовал над римлянами и держал в узде все живое»99.
Язычество рухнуло, подкошенное под самое свое основание царем-христианином, формально все еще не являющимся членом Церкви. Раскрылись двери тюрем, церковные общины и осужденные при царях-гонителях христиане получали обратно ранее конфискованное имущество, двор и ближнее окружение св. Константина становились исключительно православными.