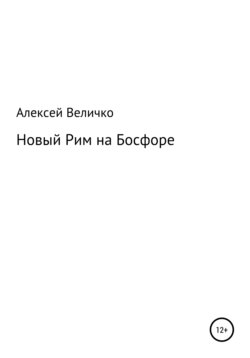Читать книгу Новый Рим на Босфоре - Алексей Михайлович Величко - Страница 6
Династия Константина
I. Святой равноапостольный Константин Великий (306—337)
Глава 3. Переезд в Константинополь, конец жизни
ОглавлениеПосле блистательного I Вселенского Собора, где присутствовавшие на Соборе епископы торжественно отметили 20‑летие царствования св. Константина, василевс вернулся в Рим. Здесь император ожидал отдохновения от своих многочисленных трудов, но, увы, конец его жизни был ознаменован некоторыми печальными событиями.
Вечный город и ранее был не очень расположен к «восточному» василевсу, и если после победы над Макценцием римляне рукоплескали в овациях при триумфе царя, то связывалось это не с чем иным, как с освобождением от тирании Макценция. Как только старые раны затянулись и забылись оскорбления тирана, нелюбовь к св. Константину вспыхнула с новой силой. Римлян раздражало в царе буквально все: его восточная одежда, манеры, пышность двора и церемоний, расположенность императора к христианам. Но, главное, в нем видели некий прообраз Диоклетиана – императора, поставившего некогда на колени гордый римский сенат и установившего твердую единоличную власть.
С одной стороны, св. Константин предпринял шаги, направленные на оживление сенатской деятельности: он значительно расширил численность сената, надеясь за счет сенатского управления обеспечить покой и безопасность вновь приобретенных территорий в Италии и Африке. Но эта-та мера и не понравилась «старым» сенатским родам, поскольку их вновь назначенные коллеги в массе своей происходили из служивого сословия, а не из аристократии. Не улучшил их настроения и новый поземельный налог, введенный императором для пополнения государственной казны, объектом которого являлась именно сенатская собственность.
Но самое главное, пожалуй, заключалось даже не в этом. Святой Константин никак не желал следовать старому культу языческих богов и отправлять богослужения на капищах. Это было тем более недопустимо, по мнению сенаторов, что издавна старые аристократические роды всеми способами стремились вступить в ту или иную жреческую коллегию – ведь членство в ней несло за собой освобождение их имуществ от налогообложения. Религиозная деятельность аристократии не ограничивалась стенами Рима, множество сенаторов покровительствовало муниципальным культам отдельных провинциальных общин.
А потому пиком общего недовольства стало празднование 20‑летия правления императора, пришедшееся на 326 г. 15 июля этого года св. Константину предложили по традиции возглавить шествие на Капитолий, и он было согласился. Однако категорически отказался принести жертву Юпитеру в языческом храме, вследствие чего церемония оказалась сорванной. Это событие возмутило сенаторов и плебс, который осы́пал камнями статуи императора. Удивительна его реакция: после минутной паузы царь произнес: «Нельзя сказать, чтобы я это заметил». Доверчивость, незлобивость императора граничили с наивностью, которой гордый и прагматичный римский ум не прощал никому. И нет никаких сомнений, что эти волнения были организованы аристократами, которые своей поддержкой языческой партии стремились минимизировать деятельность императора по ограничению власти сената137.
Существовали и другие обстоятельства, предопределившие не самые добросердечные отношения императора с сенатом. Несколько ниже, в обобщении, мы более детально рассмотрим вопрос об императорских полномочиях и специфике царской власти в Византии. Сейчас лишь заметим, что в эпоху св. Константина идея единоличной власти, идея василевса лишь пробуждалась и была едва заметна на фоне старых римских представлений о суверене верховной власти. Со времен республики повелось считать, что весь римский народ является носителем высших политических прерогатив, которые он в соответствии с законом и по своему выбору делегирует на время народным избранникам. Органом, непосредственно влияющим на выборы высших должностных лиц государства, являлся сенат, и его роль в практической расстановке сил трудно переоценить. Правда, однако, и то, что сенатское правление, систематически прерываемое диктаторами или прямыми тиранами, едва ли соответствовало идее «народной воли».
Потому с точки зрения официальной неписаной идеологии Рима princepes, каковым был св. Константин Великий, являлся только первым между граждан: «princepes senatus et universorum» («первый в сенате и среди всех вообще»)138. Основанием власти св. Константина являлись его военные успехи, благосклонно признанные сенатом (а что ему оставалось еще делать?). Но благосклонность – вещь очень переменчивая, державшая св. Константина в скрытой зависимости от воли тех, кто не собирался в существе своем менять старые римские олигархические порядки.
Однако идея народной воли, в первую очередь, конечно, воли самого сената, как основание властных полномочий василевса, шла в явное противоречие с единоличным и абсолютным правлением святого царя, по праву претендующего на более прочный фундамент своей власти. Кроме того, особенно после Никейского Собора, св. Константин все более и более погружался в содержание православного вероучения и, конечно, не мог следовать римским, языческим устоям своего царствования, целиком покоящимся на «князи человеческие».
Если уж св. Константин, не смущаясь, говорил о себе как о «сослужителе епископов», «епископе внешних», «неком общем епископе»139, то, надо полагать, идея божественного источника царской власти к тому времени не могла не привлечь его внимания. Не случайно Евсевий, по-видимому, как и любой придворный писатель, невероятно чуткий к настроениям властей предержащих, специально отмечает в своем труде: «Константина… Бог всяческих и Владыка всего мира соделал императором и вождем народов сам собой. Между тем как другие удостаиваются этой чести по суду человеческому, – Константин был единственный василевс, призванием которого не может похвалиться никто из людей»140. Безусловно, такие речи исходили не только от одного Евсевия, и св. Константин не мог игнорировать – хотя бы внутренне, пока еще без огласки – формулы, естественные для христианского сознания.
Как известно, одно дело слушать такие идеи, другое – ввести их в политический оборот. В Риме с его старыми традициями, развращенным плебсом и самоуверенным, гордым сенатом, любая ревизия основ государственной власти императора немедленно вызвала бы крайне негативную реакцию. «Рим, погруженный в сон об античности, не любил людей, которые жили исключительно настоящим»141. Если св. Константин и думал об этих предметах, то, пожалуй, рассчитывал все же на мягкие реформы. К сожалению, даже для робких шагов, должных всего лишь наметить определенную тенденцию, дело не дошло.
Но главная беда ждала св. Константина внутри семейства и была напрямую связана с его старшим сыном Криспом. Внешне это выглядело незамысловато и почти буднично. Летом Крисп был арестован без публичного объявления причин, допрошен и сослан в Полу, в Истрию. А через короткое время император подписал сыну смертный приговор, приведенный в исполнение непосредственно в месте его ссылки. Что же стояло за этой трагедией, жертвой которой стал находившийся на вершине славы первенец, боевой сподвижник и правая рука св. Константина?
Хотя первоисточники практически не упоминают об истинных обстоятельствах дела, некоторые исследователи приводят следующие соображения, которые выглядят убедительными. Как уже говорилось выше, приезд св. Константина в Рим состоялся как раз после пышного празднования 20‑летия нахождения его на вершине государственной власти в составе царственной тетрархии. Создавая эту оригинальную систему, Диоклетиан определял для себя именно 20‑летний срок, по окончании которого он и второй август должны были оставить свои посты для цезарей, обязанных подготовить в свою очередь преемников на свои должности. И хотя после того, как указанный срок наступил, Диоклетиан вдруг воспротивился собственному замыслу, Галерий все же вынудил того выполнить ранее данное самому себе обещание до конца. Официально тетрархию никто не отменял, и теперь эта доктрина могла обернуться против св. Константина, вернее против его сыновей от Фаусты.
Здесь-то и возникала фигура незаконнорожденного Криспа, который имел – чисто теоретически – все мотивы для того, чтобы обойти законных сыновей своего отца от брака с Фаустой. Конечно, порфирородность – критерий, с которым нельзя не считаться. С другой стороны, Рим не знал закона о наследовании царского трона, а заслуги Криспа и его старшинство в годах перед младшими единокровными братьями, военный и политический опыт могли стать той причиной, по которой капризное римское общество, ценившее собственную безопасность и стабильность очень высоко, признало бы императором именно его, а не детей св. Константина от законного брака. Более того, умозрительно рассуждая, Крисп был заинтересован не только в устранении собственных малолетних братьев, но и отца, поскольку при его жизни у него было мало шансов стать императором.
Откровенно говоря, вряд ли сам Крисп загадывал так далеко, и едва ли его можно упрекнуть в подобных умыслах. По крайней мере, историки рисуют портрет царевича в благородных тонах, и черты его характера весьма сходны с обликом св. Константина: «Юный и одаренный от природы самым симпатичным характером», – пишет о нем историк142. Он уже был крещен к тому времени и всячески помогал отцу в обеспечении свободной деятельности Церкви. Другое дело, что Фауста, полностью унаследовавшая от своего отца и брата коварство, цинизм и совершеннейшую неразборчивость в средствах, демонизировала ситуацию донельзя. Трудно сказать, что ею двигало. Возможно, материнский инстинкт, методично и заблаговременно устраняющий любые препятствия на пути ее детей к трону, либо старые счеты с Криспом, за которые она решила поквитаться.
Но именно она убедила св. Константина в тайных преступных замыслах Криспа, в качестве «доказательства» дав царю слово, что якобы царевич предложил ей супружество и трон императрицы после физического устранения отца. В принципе в таком кровосмесительном браке не было ничего неожиданного и невиданного: и ранее, и гораздо позднее монархические семьи нередко нарушали закон о браках с близкими родственниками, если того требовали интересы государства и трона. Не составлял исключения и Древний Рим, где очень многое отдавалось в жертву конкретному результату, в том числе политическому. Поэтому слова Фаусты, подкрепленные указанными выше размышлениями, выглядели внешне убедительно и правдоподобно. Не исключено также, что Фауста была не одинока в этой интриге – даже из общих соображений легко представить, что при дворе нашлись люди, которым было что делить с Криспом. Ведь еще до последней войны с Лицинием некоторые придворные круги усиленно пытались внушить императору недоверие к сыну, вследствие чего тот находился буквально под надзором143. Поэтому, по существу, в обвинениях, которые втайне предъявлялись Криспу, не было ничего нового.
Правда, никто не мог впоследствии доказательно подтвердить слова присяги Фаусты, в истинности которых она на время убедила св. Константина144. Но в тот момент, наверное, давление на него было слишком велико, и царь, наконец, принял то страшное решение, о котором раскаивался потом все оставшиеся годы.
Отсутствие какой-либо доказанной вины Криспа обнаружилось почти сразу. Мать св. Константина св. Елена укоряла сына в поспешности вынесенного приговора, не сомневаясь в его несостоятельности. Но вдова Криспа Елена была куда более успешной – при личной встрече с царем она, бросившись в ноги свекру, сумела опровергнуть домыслы Фаусты. По приказу царя состоялось следствие, закончившееся казнями всех заговорщиков. Отвергнутая императором Фауста вскоре (возможно, не без посторонней «помощи») утонула в ванне во время купания145. Правда, по другой версии, Фауста была застигнута во время адюльтера слугами императора с неким Курсором и по приказу царя задушена в раскаленной бане146. Так или иначе, но сына уже было не вернуть. Единственное, что отец мог сделать – поставить серебряную вызолоченную статую Криспа147.
Находиться в опостылевшем Риме св. Константин уже не мог, и взор императора скользил по карте Империи в поисках подходящего места для выбора новой восточной резиденции и столицы. В качестве вариантов рассматривались и Антиохия, и Александрия, и даже легендарная Троя. Но в конце концов выбор императора пал на маленький греческий город Византий, расположенный чрезвычайно благоприятно и для торговли, и для обороны, и для размещения войск. Правда, таким признакам соответствовали и многие другие населенные пункты, в том числе на Западе; не удивительно ли, что св. Константин – как видно уже из географии возможных городов-кандидатов – решил перебраться именно на Восток? Конечно, спустя 1700 лет едва ли возможно проникнуть в душу и помыслы великих людей, но некоторые обоснованные соображения по поводу мотивов переезда императора все же следует высказать.
Сложенный спустя какое-то время в Риме анекдот о том, что император фактически сложил с себя полномочия правителя западной части Римской империи в пользу папы Сильвестра, более того, признал его власть над собой, и даже гордясь тем, что публично посчитал за честь быть его конюшенным, лишен какой-либо исторической правды. Конечно, царем двигали совсем не те чувства, которыми впоследствии «наделили» его изворотливый папский клир и западные канонисты. В данном случае мы не будем затрагивать вопроса о правовых основаниях (по «божественному праву») столь резкой замены носителя высшей политической власти с императора на папу. Безусловно хотя бы то, что и после переезда на Восток св. Константин назначил правителями западных провинций своих сыновей, нисколько не сомневаясь в том, что это его прерогатива, не должная согласовываться с Римским папой. Приведем лишь соображения, касающиеся общего исторического контекста оставления св. Константином Рима.
Помимо ясного ощущения о холодном отношении к нему Рима, императором двигали сугубо практические вопросы (в частности, безопасность восточных границ), требовавшие его непосредственного нахождения там. Нельзя сбрасывать со счетов и личностные нюансы. Если в Риме св. Константин был персоной далеко не самой желанной, то для Востока император до сих пор оставался блистательным победителем тирана и гонителя христиан Лициния. Рим в своей массе оставался все еще языческим городом и лишь терпел императора-христианина. Напротив, на Востоке христианство было распространено к тому времени гораздо шире. Римский сенат явно и тайно пытался заставить царя считаться с собой; на Востоке у св. Константина не было внутренних политических врагов, организованных в единую силу и питающих свою силу из давних политических традиций.
Запад едва к тому времени заметил Никейский Собор и явно не оценил еще по достоинству величия царского замысла соборно, на вселенских совещаниях обсуждать затрагивающие всю Церковь вопросы. Наоборот, Восток славословил царя, положившего конец арианской ереси и обеспечившего единство Церкви. Согласимся, для немолодого уже василевса, находящегося под гнетом воспоминаний о семейной драме и тяготящегося неблагодарностью римлян, психологически комфортнее было избрать именно восточные провинции, чем Милан или другой итальянский город, где живы были римские представления о власти.
Так или иначе, но царь издал соответствующие распоряжения, и 4 ноября 326 г. состоялась закладка новой городской стены. Хотя официально вопрос о наименовании города решался долго, в народе он сразу же стал называться «городом Константина», Константинополем148.
Константинополь стал первым христианским городом Империи. В его стенах не был построен ни один языческий храм, а уже имевшиеся были переоборудованы в христианские церкви. Правда, св. Константин не чурался лучших произведений языческого искусства, которые в изобилии стекались в новую столицу со всех концов Римского государства. Например, из Дельф привезли статую Аполлона Пифийского, ее дополнила фигура Аполлона Сминфийского. Масштаб строительства и украшения столицы потрясают воображение даже в наши дни: как рассказывают, количество вывезенных из Рима и других городов Империи статуй было невероятно большим. Только на одном ипподроме Константинополя насчитывали более 60 статуй, перевезенных из Рима, в том числе статуя Августа. Святой Константин приказал также перевезти из Рима в Константинополь монолитную колонну из египетского порфира, имевшую в высоте более 30 метров.
На эту перевозку понадобилось 3 года, этот громадный колосс был с большими трудностями поставлен на форуме в «новом Риме», а в основании его был заделан Палладиум, также взятый св. Константином из Рима149. Для придворных и всех желающих царь выделил участки земли для застройки, а 11 мая 330 г. Константинополь был освящен.
Возведенный св. Константином Великим Константинополь как новая столица, хотя перенял большинство политических традиций старого Рима, но дал и много нового. Здесь также был образован свой сенат из числа переехавших представителей древних римских семей, но равноапостольный царь, как великий администратор, не желал сохранять институты, которые казались ему отжившими и морально устарелыми. Он хотел уйти от пустого аристократизма, к тому же крайне неэффективного на государственной службе, и обрести государственное управление, основанное на государственных мужах. Святой Константин резко увеличил число важных государственных должностей, получивших сенаторский статус, но занимал их представителями служилых сословий. Образовался новый «путь карьеры» (cursus honorum) для тех, кто стремился наверх: через службу в государственном аппарате и у императора. Того, кто прошел этот путь, ждала высшая награда: он считался практически приравненным к старой аристократии, хотя бы являлся выходцем из низов150.
Надо сказать, святой император руководствовался политическим гением Диоклетиана. Еще в пору этого императора был установлен новый «Табель о рангах» Римского государства, предусматривавший 6 высших степеней чиновников. К первой группе относились «nobilissimi» – «знатнейшие» (члены императорской семьи и сама императорская чета), затем «clarissimi» – «светлейшие», «perfectissimi» – «совершеннейшие», «egregii» – «превосходнейшие», «illustres» – «сиятельные», «spectabeles» – «высокородные». Были введены также должности управляющего императорским дворцом («praepositus sacri cubiculi»), государственный канцлер Римской империи («Quaestor sacri palati»), управляющий финасами («comes largitionum») и огромное количество придворных должностей, прямо и косвенно связанных с государственным управлением151.
Дети св. Константина Великого продолжили дело отца. Так, уже при императоре Констанции членами сената могли быть лица, удовлетворяющие следующим критериям: 1) наличие денег, 2) недвижимого имущества, 3) занятие определенной государственной должности, 4) необходимый культурный уровень. При этом царе ядро Константинопольского сената составили служилые аристократы и даже бывшие рабы, включая евнухов152. Поэтому роль и значение сената в Константинополе были, конечно, несопоставимы с теми, которыми обладал Римский сенат. Но все же это был один из высших органов государственной власти Империи, нередко принимавший активное участие в выборе или назначении императора.
Сохранился также, хотя и в ослабленном виде, принцип народного суверенитета, и потому каждый новый царь должен был проходить процедуру назначения. Особенно интересно, у кого всякий раз новый император получал согласование на царствование. Сенат, как уже говорилось, был непременным участником этих церемоний, сохранив значение первенствующего в Империи государственного органа. Поскольку собрать весь народ никто никогда и не предполагал, его естественным «заместителем» с давних пор стала армия. То обстоятельство, что постепенно армия стала наемной, варварской и даже неправославной, никого не смущало. Помимо любви к традициям, римляне всегда были реалистами и не шли против силы – а армия была той зачастую хаотической, неподчиненной никому силой, которая могла опрокинуть и сенат, и императора. Но впоследствии участие этих институтов в деле поставления нового царя минимизируется, и все большее значение приобретает Церковь и Константинопольский патриарх.
Но и этот относительно мирный период в жизни христианского императора нередко озарялся всполохами войны. Как некогда ранее, возникла страшная готская угроза – они стали теснить сарматов, живших на берегах Тиссы и Дуная. Сарматы запросили помощи у Римского правительства. Предвосхищая действия св. Константина, в 322 г. готы сами переправились через Дунай и вторглись на территорию Империи. Всю зиму они разоряли Иллирию, но тем временем император заключил соглашение с Херсоном о взаимных действиях против готов. Союз дал успешные результаты. В результате слаженных и хорошо организованных военных действий вождь готов Арарих был заперт в Иллирийских горах, где его воины во множестве погибали от голода и холода, а вскоре вообще сдались на милость победителя.
Готы не ошиблись: св. Константин вновь явил свое благородство и милосердие, отпустив их вождей с богатыми подарками и взяв сына самого Арариха в качестве заложника153. По тем временам это был не только способ обеспечения должного исполнения договорных обязательств со стороны готов, но и, пожалуй, единственная возможность для юного варвара приобщиться к величайшей римской культуре. Ведь, как известно, обыкновенно заложники жили в императорском дворце на полном содержании василевсов. Это был последний военный поход св. Константина и последняя победа римского оружия за Дунаем.
Постаревший император был уже слаб, а дни его сочтены. К этому времени практически завершилась постройка храма Святых Апостолов в Константинополе, где св. Константин повелел похоронить себя после смерти. Этот храм надолго пережил своего создателя, и на долгие века церкви Святых Апостолов суждено было стать местом упокоения Византийских самодержцев.
В 336 г. император посетил Иерусалим, где в его присутствии был освящен храм Гроба Господня. Как утверждает летописец, там, в кувуклии, он услышал Бога, и это принесло ему большое облегчение. В общении с близкими царь с грустью заметил, что если бы был так же мудр, как Диоклетиан, то оставил бы власть и передал сыну Криспу, и тот был бы жив. Ему тут же напомнили, что добровольная отставка Диоклетиана вскоре привела Римскую империю к очередным гражданским войнам, и этот же итог был неизбежен и в данном случае. Обратившись к Евсевию Кесарийскому, император спросил: «Простит ли меня Бог за убийство сына?» – на что получил утвердительный ответ154.
После празднования своего 30‑летия у власти св. Константин прожил совсем немного, хотя до последних дней оставался грозой для врагов. В это время едва не начались военные действия с Персией, где правила великая династия Сасанидов. Но персы вовремя осознали грозившие им неприятности и направили посольство для заключения мирного договора. Царь принял посольство, передавшее ему богатые дары, и мог в очередной раз гордиться плодами своих рук.
Но в это время его уже подстерегла другая опасность, исходящая от самого близкого круга. Как утверждают некоторые источники, император был отравлен своими племянниками, решившими примерить на себя царские инсигнии155. Так или иначе, но василевс заболел, и болезнь неумолимо приближала его конец. Почувствовав близкое дыхание смерти, св. Константин решил осуществить свою давнюю мечту – креститься в водах Иордана, но этому уже не суждено было сбыться.
В Еленополе (город, названный в честь его матери св. Елены), где царь принимал теплые ванны, он исповедался в церкви Святых Мучеников, затем, переехав в Никомидию, обратился к епископам с просьбой крестить его. Следует попутно заметить, что позднейшая легенда, будто бы св. Константин крестился в Риме у папы Сильвестра, распространенная в том числе в византийской историографии, лишена каких-либо оснований и обусловлена некоторыми причинами. Во-первых, эта история была заимствована из подложного «Константинова дара», о котором у нас ниже не раз пойдет разговор. Во-вторых, сама мысль о том, что св. Константин мог креститься от рук епископа-арианина, была несовместима с обликом этого светлого царя для православных писателей позднейших эпох. Кстати сказать, эта история лишний раз подчеркивает, насколько св. Константин был дорог Церкви, и как клир пытался устранить, пусть даже и искусственно, любые возможные нападки на его имя.
По завершении священного обряда император облекся в торжественную одежду василевса и почил на ложе, покрытом белыми покровами. Затем, возвысив голос, св. Константин вознес к Богу благодарственную молитву и в заключение сказал: «Теперь я сознаю себя истинно блаженным, теперь я достоин жизни бессмертной, теперь я верую, что приобщился Божественного света». Очень характерно, что даже на смертном одре св. Константин думал не о себе, а о тех, кто лишен великого блага быть членом Церкви. Таковых он называл «несчастными и жалкими»156. В день Святой Троицы, 22 мая 337 г., около полудня великого императора не стало.
Его смерть стала трагедией Римской империи. Дворцовая стража разодрала на себе одежды, дворец огласился плачем и воплями, таксиархи и лохаги называли его своим спасителем, хранителем и благодетелем; остальное войско вместе с простым народом было объято ужасом. Взяв тело, воины положили его в золотой гроб, а затем, накрыв его багряницей, водрузили гроб на саркофаг и поставили в лучшей из комнат царского дворца.
Тихо горели свечи в золотых подсвечниках, многочисленная стража день и ночь охраняла своего любимого императора, а комиты и остальные военачальники каждый день, словно для доклада, прибывали к телу св. Константина и преклоняли колено, приветствуя покойного. Это было настолько неожиданно, что всем казалось, будто, несмотря на смерть, царствие св. Константина Великого продолжалось. «Одному только ему сущий над всеми Бог даровал преимущество царствовать над людьми даже после смерти, и людям, не лишенным смысла, этим ясно указал на нестареющее и нескончаемое царствование души его», – писал современник157.
Рим и Константинополь вступили в заочное состязание за право предоставить у себя последний приют покойному царю. В самом Вечном городе в знак траура были закрыты все бани и рынки, все жители Рима громогласно славословили своего царя. Ему посвящались картины, на которых св. Константин был изображен «покоящимся в горнем жилище, превыше всех небесных кругов». Все мечтали только об одном: чтобы честь принять в последний раз святого императора была предоставлена именно им.
Но сын императора, будущий Римский царь Констанций, уже принял решение похоронить отца в Константинополе. Из Никомидии в окружении многочисленных отрядов римских воинов он сопровождал до самого Константинополя саркофаг с телом св. Константина, демонстрируя высочайшее уважение к нему и почтение. Наконец, процессия прибыла на место, и возле храма Святых Апостолов солдаты отошли в сторону, предоставив место священникам. Прославляемый, оплакиваемый всеми василевс был погребен в том мавзолее, который соорудил при своей жизни, открыв счет святым императорам Римской империи158.