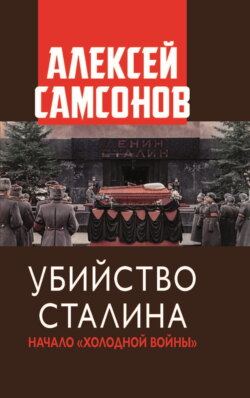Читать книгу Убийство Сталина. Начало «Холодной войны» - Алексей Самсонов - Страница 12
Глава 2
Послевоенная политика Сталина
Борьба с космополитизмом как борьба против «пятой колонны» Вашингтона. Книга о войне
ОглавлениеПосле уничтожения врагов с оружием в руках всё ещё останутся враги без оружия, они непременно будут вести против нас отчаянную борьбу и их ни в коем случае нельзя недооценивать.
Если бы мы теперь не ставили и не поднимали вопроса так, то допустили бы величайшую ошибку
Мао Цзэдун, речь на 2-м Пленуме ЦК КПК 7-го созыва 5 марта 1949 года.
После окончания войны Сталин хотел вернуться к прежнему, довоенному, курсу. Но события пошли по другому пути.
Роль катализатора кампаний по борьбе с космополитизмом и сионизмом сыграли телеграмма посла Кеннана и речь Черчилля в Фултоне, положившая начало «холодной войне».
Как я писал в книге о войне, после установления просоветских режимов в Восточной Европе, отношение к масонству было терпимым. Это можно объяснить тем, что Сталин (масон) и другие советские руководители надеялись на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Западом, как было до и во время войны. Но Запад не шёл на сотрудничество с СССР, несмотря на желание Сталина и всего советского руководства.
Ответная реакция Сталина на фултонскую речь не заставила себя долго ждать. Во внешней политике началась борьба с сионизмом. А внутри страны был распущен Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) – «пятая колонна» Запада. Началась и борьба с космополитизмом – с «пятой колонной» внутри страны. Под каток этой кампании попала большая часть «творческой интеллигенции», которая видела в Западе идеал. Этим Сталин вызвал резко негативную реакцию мировой закулисы.
Обычно первым этапом перехода Сталина к «патриотизму» считают его знаменитый тост. Но, понятно, ни о каком переходе Сталина на позиции русского патриотизма не может быть и речи. Это был только факт признания роли русского народа в отличной реализации плана «Черепа и Костей». За это Сталин и сказал: «Спасибо ему, русскому народу!» Напомню, это было 24 мая 1945 года, когда о «Холодной войне» ещё и речи не было, а Сталин надеялся на дальнейшее сотрудничество.
Этот тост хорошо известен, но хочу обратить внимание вот на что. Сталин говорил: «У нашего правительства было немало ошибок. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошёл на это…» Были ли у Сталина основания так говорить?
В газете «Русский вестник» за апрель 2003 года был опубликован результат проверки этих слов на детекторе лжи. Результат был удивительным. Сталин в начале фразы очень уверен в том, что «народ мог поставить другое правительство» – 83 %, а вот в конце, когда говорит, что народ на это не пошёл, его уверенность стремительно упала – больше, чем в два раза. При этом Сталин сильно волновался – показатель стресса 60 %. Что имел в виду Сталин? Да, мы не знаем многое в нашей истории.
Почему-то «историки» этот фрагмент тоста никак не комментируют. Но, видимо, переворот был возможен.
9 ноября 1945 года в «Правде» были помещены фрагменты из речи Черчилля, восхваляющие Сталина. Сталин знал, что эти похвалы – в контексте планирующейся операции «Немыслимое» – были лицемерны. И 10 ноября из Сочи, где он отдыхал после микроинсульта, отправил телеграмму на имя Молотова, в которой говорилось: «Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать своё враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики (Термин! – А.С.) из партии лейбористов являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР. У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ… Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня» [291; с. 31]. Прямо о Горбачёве и наших правителях: как они радовались похвалам бушей!
В ответной телеграмме Молотов писал: «Опубликование речи Черчилля было разрешено мною. Считаю это ошибкой. Во всяком случае, её нельзя было печатать без твоего согласия» [291; с. 33].
По указанию Сталина агитационный отдел ЦК (Агитпроп), который в 1948–1949 гг. возглавлял Дмитрий Шепилов (в 1947–1948 гг. зам. зав. отдела, а с 1949-го до 1956 года – председатель Постоянной комиссии по идеологическим вопросам ЦК), в марте 1949 года представил «План мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время». В нём, в частности, говорилось: «Организовать в газетах систематическое печатание материалов, статей, памфлетов, разоблачающих агрессивные планы американского империализма, антинародный характер общественного и государственного строя США, развенчивающих басни американской пропаганды о “процветании” Америки, показывающих глубокие противоречия экономики США, лживость буржуазной демократии, маразм буржуазной культуры и нравов современной Америки» [291; с. 322]. В другом документе (апрель 1949 года) предлагалось «обеспечить создание художественных произведений – пьес, киносценариев, повестей, романов, разоблачающих американский образ жизни» [291; с. 346].
Ранее, 18 апреля 1947 года, Агитпроп ЦК разработал «План мероприятий по пропаганде среди населения идей советского патриотизма», в котором говорилось: «Партийные организации, все работники печати, пропаганды, науки и культуры должны постоянно разъяснять, что советский патриотизм означает глубокое понимание превосходства социалистического строя над буржуазным, чувство гордости за советскую родину, беззаветную преданность партии Ленина – Сталина»; «Нужно вскрывать духовное обнищание людей буржуазного мира, их идейную опустошённость, разъяснять, что частнособственнические отношения, подчинение всей духовной жизни людей интересам денежного мешка, интересам наживы, уродуют и калечат человека, толкают его на преступления»; «Необходимо подчёркивать духовную красоту советского человека, работающего на благо всего общества»; «В ближайших номерах газет и журналов опубликовать статьи», «поручить министерствам просвещения союзных республик при переиздании школьных учебников полнее показать в них достижения отечественной науки и техники», и т. д. [291; с. 110–115]. Во исполнение плана было решено издать серию книг «Люди русской науки» [291; с. 133].
Хорошее постановление… но люди-то видели, что всё как было – так и есть: как была нищета в колхозах и областях – так всё и осталось. Это в кино и в газетах – «разгул патриотизма», который, увы, ничем не был подкреплён.
Сталин был инициатором ужесточения цензуры иностранной прессы и литературы. В письме на имя Г. Маленкова «О “Голосе Америки” и ограничении слушания в СССР заграничных передач» 19 марта 1947 года управляющий делами ЦК ВКП(б) Д. Крупин указывал: «…Проникновение этой пропаганды облегчается тем, что наша промышленность выпускает приёмники с короткими волнами, на которых легче всего достичь советского радиослушателя. Поэтому одной из первых мер для ограничения слушания заграничных станций явится сокращение выпуска всеволновых радиоприёмников и резкое увеличение выпуска приёмников только на длинных и средних волнах, на которых менее всего рассчитана работа американских станций…» В результате 10 июля СМ СССР принимает постановление № 2348-920с «Об организации производства двух- и трёхламповых приёмников “Москвич” и “Салют” без коротковолнового диапазона» [291; с. 437]. Опять же: Крупин либо «услужливый дурак», либо провокатор. Я думаю, это было чисто провокационное письмо, ведь ясно же, что запретный плод – сладок и люди будут стремиться купить приёмник именно с короткими волнами и слушать «голоса». Думаю, Председатель Совмина Сталин подписал это постановление из лучших побуждений и не подумал о последствиях.
Сталин поднял проблемы низкопоклонства перед Западом 13 мая 1947 года на встрече в Кремле с руководством Союза советских писателей в лице Фадеева (Генерального секретаря ССП), Симонова и Горбатова. Во встрече участвовали Молотов и Жданов (секретарь ЦК по идеологии). Вначале речь шла об улучшении материального положения писателей. Сталин сказал, что все их запросы будут удовлетворены. После чего сказал: «Есть такая тема, которая очень важна и которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию – профессоров, врачей – у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. Все чувствуют себя ещё несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Эта традиция отсталая. Она идёт от Петра, это был период преклонения перед немцами, потом французы» [274; с. 298]. (Думаю, Сталин говорил и себе: хватит, мол, быть «учеником» западных «братьев».) И далее: «Говоря о дальнейшем развитии советской литературы и искусства, нельзя не учитывать, что они развиваются в условиях невиданного ещё в истории размаха тайной войны, которую сегодня мировые империалистические круги развернули против нашей страны, в том числе в области литературы и искусства. Перед иностранной агентурой в нашей стране поставлена задача: проникать в советские органы, ведающие делами культуры, захватывать в свои руки редакции газет и журналов, оказывать воздействие на репертуарную политику театра и кино, на издание художественной литературы. Всячески препятствовать выходу в свет революционных произведений, воспитывающих патриотизм, поддерживать и продвигать произведения, в которых проповедуется неверие в победу коммунистического строительства, пропагандируется буржуазный образ жизни… Один американский сенатор сказал: “Если бы нам удалось показать в большевистской России наши кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им коммунистическое строительство”. Надо серьёзно подумать, кто и что у нас сегодня внушает при помощи литературы и искусства, положить конец идеологическим диверсиям в этой области… Те же, кто не хочет преданно служить советскому народу, получат разрешение на выезд на постоянное жительство за границу и пусть там воочию убедятся в пресловутой буржуазной “свободе творчества”, где представители творческой интеллигенции полностью зависят от денежного мешка финансовых магнатов».
В стране уже была почва для такого заявления. Только что закончилась Великая Отечественная война, победа в которой подняла патриотический дух. Фадеев ещё в 1943 году стал писать о «ханжеских проповедях беспочвенного космополитизма».
Сразу после войны, при созданном в 1943 году Всероссийском театральном обществе (ВТО), возникло, по образцу западноевропейских гильдий, объединение театральных критиков. Эту «гильдию» поддерживали руководители Союза писателей драматурги А. Крон и зам. Фадеева К. Симонов (он, согласно «списку Джема», был масоном [90; с. 262]). Впоследствии он отошёл от этой группы, опубликовав в «Новом мире» статью с осуждением космополитизма [165; с. 320]. Не было ли это тактическим ходом, чтобы остаться в фаворе у Сталина?
Ядро этой группы критиков составляли Борщаговский, Альтман, Юзовский, Бояджиев, Гурвич, Мацкин, Малюгин, Шкловский, Гозенпуд.
В Политбюро за этой группой стояли Каганович и Маленков (агент нью-йоркского антисоветского центра с 1930-х годов, о чём начальник Стратегической контрразведки (личной секретной службы Сталина) генерал «Джуга» сообщил Сталину 27 марта 1947 года [274; с. 339]). Благодаря их поддержке, статьи этих критиков печатали «Известия», «Культура и жизнь», «Советское искусство», «Новый мир» (редактор К. Симонов), «Театр».
Выступая по случаю 30-й годовщины Октября, Молотов призвал народ осудить проявления низкопоклонства перед Западом и капиталистической культурой. А в январе 1948 года Жданов ввёл в обиход выражение «безродный космополит».
Вот что писал поэт-переводчик М. Зисман: «Советский Союз – это страна мрака и ужаса. В СССР все находятся в рабстве (Особенно Зисман. – А.С.). Господствует крепостное право. Хочу, чтобы прилетели американские “летающие крепости” и смели с лица земли украинско-антисемитское гнездо – Киев» [165; с. 360].
29 января 1949 года «Правда» поместила редакционную (т. е. неподписанную именем автора) статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». В этот же день в «Литературной газете» появилась статья аналогичного содержания под названием «До конца разоблачить антипатриотическую группу театральных критиков». По свидетельству Борщаговского, авторами статей были Фадеев (Генсек ССП) и Заславский (обозреватель «Правды»), которым на заседании Оргбюро ЦК было поручено «выступить с принципиальной установочной статьёй» [291; с. 241].
После этих статей и началась кампания по борьбе с космополитизмом.
Как будто о будущей «перестройке» и «реформах» говорил Жданов: «Положение серьёзное и сложное. Намерение разбить нас на поле брани провалилось. Теперь империализм будет всё настойчивее разворачивать против нас идеологическое наступление. И совсем неуместно маниловское прекраснодушие: мы-де победители, нам всё теперь нипочём… Наши люди проявили столько самопожертвования, что ни в сказке сказать. Они теперь хотят хорошо жить. Миллионы побывали за границей, видели не только плохое, но и кое-что такое, что заставило их задуматься. А многое из виденного преломилось в головах неправильно, односторонне. Среди части интеллигенции и не только, бродят такие настроения: пропади всё пропадом, всякая политика, хотим просто хорошо жить. Зарабатывать. Свободно дышать. Настроения аполитичности, безыдейности очень опасны для судеб нашей страны. Они ведут нас в трясину. В литературе, драматургии, кино появилась какая-то плесень… Эти настроения становятся ещё опаснее, когда они дополняются угодничеством перед Западом: “Ах, Запад! Ах, демократия! Вот это литература!” Какой стыд, какое унижение национального достоинства!» [165; с. 291].
Симонов впоследствии говорил о заразе космополитизма: «Космополитизм в искусстве – это стремление подорвать национальные корни, национальную гордость, потому, что людей с подрезанными корнями легче сдвинуть с места и продать в рабство американскому империализму» [165; с. 343]. А в конце 1954-го на II съезде писателей СССР Фадеев заявил: «Необходимо, чтобы мы все помнили, что борьба с проявлениями национализма и космополитизма была справедливой борьбой, и если бы мы её не проводили со всей решительностью, то наши идейные противники могли бы принести большой вред развитию советской литературы» [165; с. 348].
Известный писатель Л. Леонов в письме Сталину говорил, что он чистокровный русский, тогда как у нас в литературе слишком уж много «космополитов, евреев, южан».
Благодаря победе в войне поднялся и русский патриотизм. Например, издавалась книжная серия «Восстановим русский приоритет», в которой рассказывалось о великих русских учёных. Шостакович и поэт Щипачёв написали Гимн России, который завершался словами:
Славься, Россия – отчизна свободы!
К новым победам пойдём мы вперёд.
В братском единстве свободных народов
Славься, великий наш русский народ!
Андрей Жданов предложил создать Российское бюро РКП(б). (Такое бюро уже было создано по предложению Сталина в июле 1936 года. Но через пару месяцев оно, по предложению Сталина, было распущено. Ясно, почему: создание бюро могло подтолкнуть к созданию РКП – ведь у других республик были свои партии. Но если бы была создана РКП, то генсеком чего был бы Сталин? Ста человек-цекистов?)
Видимо, по этой же причине Сталин в корне пресёк инициативу «ленинградцев» по созданию РКП и вероятный перенос столицы РСФСР в Ленинград. Отметим, что Сталин жестоко подавил даже мысль о создании РКП – ведь никаких практических действий «ленинградцы» не успели предпринять. Зато среди них расстреляли 20 человек, 6 умерли в тюрьме, осудили 214, в том числе 145 – родственники «ленинградцев»; были уволены или понижены в должности более 2 тыс. военных; а общее число пострадавших (увольнения, понижения) – почти 32 тыс. человек.
Но эти разговорчики были при Жданове. После же его «залечивания» в 1948 году ситуация меняется. Видимо, убийство Жданова было своего рода сигналом для Сталина, Вознесенского, Кузнецова и других сторонников сильного государства. Сторонники западничества в искусстве и науке в своих статьях доводят до абсурда идею русского патриотизма. И в результате появляются поговорки: «Россия – родина слонов», «Теорию относительности придумал Однокамушкин», а «поэт» Ю. Визбор придумал известный стих про балет:
Зато мы делаем ракеты,
Перекрываем Енисей,
И даже в области балета
Мы впереди планеты всей.
Олег Платонов пишет о попытках писателя Ивана Шевцова напечатать свой роман «Тля», в котором говорилось о засилье «космополитов». Казалось, время для публикации было самое подходящее: 1946-1950-е годы – разгар борьбы с «космополитами»… Шевцов говорил, что директор издательства «Молодая гвардия» И. Я. Васильев потребовал заменить имена у главных персонажей – искусствоведа Осипа Давидовича Гершмана и художника Льва Михайловича Барселонского (пародия на Эренбурга). В результате книга вышла только в 1964-м году [320; с. 58]. Но сразу после её выхода книгу стали скупать и сжигать: во дворе синагоги сожгли 2000 экземпляров [320; с. 58].
К идеологической войне с прежними «союзниками» можно отнести и издание книги датчанина Кая Мольтке «За кулисами Второй мировой войны». Рукопись этой книги редактировал сам Сталин – и это видно по слогу книги.
Я писал в книге о войне, что в 1942 году была создана Комиссия по истории Великой Отечественной войны, но она была упразднена в 1945 г., а в 1946 г. Фонд Рокфеллера выделил 139 тыс. долларов для того, чтобы написать «правильную» историю войны.
После того, как «союзники» отказались далее сотрудничать со Сталиным, они стали издавать книги, в которых представляли начало войны в версии «пакта 39-го года», что не соответствовало действительности.
Тогда советское руководство начало разоблачать ложь «союзников» – но тоже с помощью полуправды.
Основное содержание книги, изданной в 1952 году: мюнхенский сговор, «Англо-французские планы нападения на СССР», британское проникновение на Балканы, заговор 20 июля 1944 года.
Всю вину за начало войны Сталин приписывает Великобритании и Франции.
Но в книге нет рассказа ни о помощи «созников» Гитлеру, ни собственно о Гитлере. Зато много говорится о «двурушничестве титовской клики» – видимо, Сталин не ожидал от Тито ножа в спину…
Как видим, правду не отражает ни советская, ни западная версии истории войны.