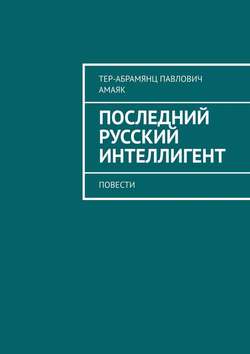Читать книгу Последний русский интеллигент. Повести - Амаяк Павлович Тер-Абрамянц - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Иртыш
(повесть)
4. Командировки
ОглавлениеОтцу приходилось много ездить и даже летать на самолетах в областные командировки. Иногда, если район был не очень далекий, и можно было обернуться за день или с ночевкой, он брал меня с собой.
Мы часами ехали на машине (редко длинный тяжелый «ЗИМ», чаще – «Победа») через плоскую, серую степь, мимо невзрачных поселков. Если возвращались в темноте, они светились в степи россыпями огней, а некоторые молчаливо темнели, тлея несколькими тусклыми оконцами – туда еще не провели электричество и там пользовались керосиновыми лампами. «А вот еще одна деревня, где нет электричества… а вот еще…» – азартно комментировали наши попутчики хирурги. «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны!»… Советская власть была. Оставалось провести электричество в эти редкие деревни, и наступит всеобщее счастье… И от близости новой эпохи дух перехватывало!
Иногда мы сворачивали на бахчи, где я впервые увидел лежащие на земле среди листвы полосатые арбузы, желтые длинные дыни, и хотелось урагана, который покатил бы их до Семипалатинска. Рассказывали, был такой ураган, после которого ставшие в одночасье бесплатными арбузы собирали на улицах.
Однажды мы увидел стоящую на обочине колонну грузовых и легковых машин. Остановились. Вышли. Впереди лежал на боку грузовик. Арбузы, которые он вез, высыпались в придорожный кювет. Говорили, что водитель ехал ночью и задремал, машина съехала с обочины и завалилась. Сам шофер сидел посреди целых и битых арбузов, рубил их ножом и непрерывно поглощал красную мякоть. На вопрос можно ли взять парочку арбузов махнул ножом и, выплюнув семечки, сказал: «А, берите хоть все!»…
А однажды мы ночевали у лесника. По дороге к леснику взрослые говорили о его подвиге: убил готовую прыгнуть на него рысь. Только вот леса я не увидел, может потому, что приехали мы к леснику уже в темноте. Помню большой деревянный дом, окруженный забором, корыто для скота под навесом, хрюканье свиней и хлевный дух.
В облике лесника не было ничего выдающегося, к примеру – дремучей бороды или хотя бы усов, которыми, как я почему-то полагал, должны были обладать наряду с почтенным возрастом все лесники – обыкновенный городской внешности мужчина средних лет. Он принес фотоальбом и показал фотографию, где стоял с ружьем, держа в руке пятнистую шкуру убитой рыси.
Рассказывал, что рысь подстерегала его и он неожиданно ее увидел в развилке дерева, мимо которого должен был пройти, при этом растопырил два пальца, показывая развилку.
Я был немного разочарован тем, что фотография не запечатлела самый драматический момент. Я верил во всемогущую силу фотографии и кино, в их возможность каким-то таинственным неведомым для меня образом оказываться в нужное время в нужном месте.
Когда Чапаев на экране строчил из пулемета, мне казалось несомненным, что это и есть тот самый настоящий Чапаев. Когда по экрану мчались басмачи на лошадях или шли танки в атаку, я верил, что это были те самые злодеи-басмачи и я вижу подлинный танковый бой.
Впервые у меня возникли сомнения в подлинности происходящего на экране при просмотре фильма «Александр Невский»: в те давние времена, как я вдруг сообразил, ни о каком кинорепортаже не могло быть и речи. Скорее всего, это была все же не детская глупость, а детская вера во всемогущество и необыкновенную мудрость взрослых. И был ли я глупее тех красных бойцов, которые (такие случаи в годы гражданской войны описаны) во время театрального представления начинали палить из маузеров по артистам, играющим роли белогвардейцев? —
Во всяком случае, когда мне сказали, что почти все фильмы игровые, я испытал разочарование: значит, в жизни могло быть вовсе не так красиво и интересно!
Перед сном меня накормили сметаной, которую я пробовал в чистом виде впервые, с хлебом. Сметана мне показалась недостаточно вкусной, хотя все ее хвалили, и я лег спать полуголодным.
Но самое интересное все же происходило в дальних командировках «в район», куда отец меня не брал: «в район» он обычно летал на самолете. Как я мечтал слетать хоть разок на «кукурузнике»! так тогда именовали небольшой одномоторный самолет-биплан с двойными крыльями, отчего он был похож на книжную этажерку.
Там он видел настоящих верблюдов, бывал в настоящих казахских юртах, попал на черкесскую свадьбу… В то время я не задавал себе вопросов, почему в этих степях оказались черкесы, немцы и представители многих других национальностей.
Особенное впечатление на отца произвело посещение казахской юрты, в которую его пригласили на кумыс. В тот раз он летал в район с профессором-казахом, имевшим замечательную фамилию – Чуваков.
После медицинской консультации их пригасили в юрту пить кумыс. В юрте черной тучей роились мухи, а гостеприимная хозяйка протирала пиалы грязным передником. Сославшись на плохое самочувствие, он бежал из юрты на свежий воздух, а профессор Чуваков тем временем с наслаждением тянул кумыс.
Думаю, грязи действительно было предостаточно, что в общем-то извинительно для кочевников по безводным степям. А вот запах кумыса, видимо, чем-то особенно привлекает мух. Мне пришлось однажды, много лет спустя, посетить конеферму в Башкирии. В помещении, где стояли высокие бочки с кумысом, было бело и чисто, как в аптеке, бочки были покрыты стерильной марлей, но, тем не менее, над ними возбужденно роились крупные мухи, которых никакими силами не удавалось окончательно прогнать.
Справедливости ради надо сказать, что казахи, видимо, вследствие отсутствия достаточно глубокой мусульманской традиции, народ, легко и с готовностью воспринимающий европейскую культуру и образование. Кроме того, они честны, скромны и, я бы сказал, внешне красивы: немало среди них длинноногих стройных юношей и пронзительных казахских красавиц.
Но самым интересным приключением отца была охота в Тарбагатайских горах на горных козлов, которых он почему-то называл архарами. Он рассказывал, как гордо и красиво выступал вожак впереди, как двигалось за ним все стадо…
Потом была погоня на «Виллисе» и выстрел из ружья, которым он свалил «архара». Домой отец привез рога. Судя по прямым рогам, это был горный козел, но никак не архар, у которого, как я видел в краеведческом музее, рога закрученные.
Рога эти – пожалуй, единственная вещь, оставшаяся у нас десятилетия спустя от Казахстана. Одно время они долго служили в прихожей вешалкой для шляп и шарфов, и было приятно сказать гостю: «А это рога горного козла, которого мой отец убил в Казахстане в Тарбагатайских горах.», слегка оглушив его замечательной варварской скачкой согласных и гласных названия никому не известных в России гор – «Тар-ба-га-тай-ские!»
Однако командировки эти были не только развлечением: в них было, конечно, много и рутинной тяжелой работы, о которой говорилось меньше всего – операций, консультаций, консилиумов.
Однажды отец должен был в очередной раз лететь в район, но за несколько часов до вылета командировку отменили, и отец в тот день, отработав как обычно в институте, вернулся домой.
Наша соседка Ольга Петровна знала о предстоящей командировке отца. Вернувшись с работы, она встретилась в коридоре с мамой. Ольга Петровна была необычно бледна. Она работала машинисткой в горкоме, и через нее проходили секретные сводки о происшествиях в районе, которые никогда не попадали в газеты, публиковавшие лишь фантастические сведения об успехах «народного хозяйства».
Она стала осторожно выспрашивать маму, уехал ли отец, а когда мама сказала, что командировка отменилась, всплеснула руками облегченно и расплакалась: самолет, на котором в тот день предстояло лететь отцу, взорвался в воздухе…