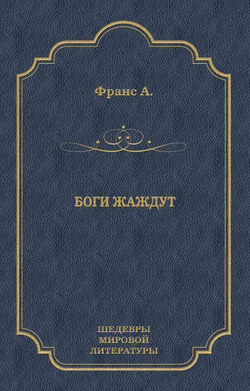Читать книгу Боги жаждут - Анатоль Франс, Анатоль Франс - Страница 3
Глава II
ОглавлениеВыйдя из церкви варнавитов, Эварист Гамлен направился на площадь Дофина, переименованную в Тионвильскую в честь города, стойко выдержавшего осаду.
Расположенная в одном из наиболее людных кварталов Парижа, площадь эта уже около века назад утратила свою красивую внешность: особняки, все, как один, из красного кирпича с подпорками из белого камня, сооруженные по трем сторонам ее в царствование Генриха IV для видных магистратов, теперь либо сменили благородные аспидные крыши на жалкие оштукатуренные надстройки в два-три этажа, либо были срыты до основания, бесславно уступив место домам с неправильными, плохо выбеленными фасадами, убогими, грязными, прорезанными множеством узких, неодинакового размера окон, в которых пестрели цветочные горшки, клетки с птицами и сушившееся белье. Дома были густо населены ремесленным людом: золотых дел мастерами, чеканщиками, часовщиками, оптиками, типографами, белошвейками, модистками, прачками и несколькими старыми стряпчими, пощаженными шквалом, который смёл представителей королевской юстиции.
Было утро. Была весна. Юные солнечные лучи, пьянящие, как молодое вино, смеялись на стенах и весело пробирались в мансарды. Опускающиеся, как гильотина, оконные рамы все были подняты, и под ними виднелись нечесаные головы хозяек. Секретарь Революционного трибунала, направляясь на службу, мимоходом трепал по щекам детей, игравших под деревьями. На Новом мосту кричали об измене негодяя Дюмурье{10}.
Эварист Гамлен жил на набережной Башенных Часов, в здании, сооруженном при Генрихе IV, которое и по сие время сохранило бы довольно привлекательный вид, если бы не маленький чердак, крытый черепицей, надстроенный при предпоследнем тиране. С целью приспособить особняк какого-то старого члена парламента{11} к укладу семей мещан и ремесленников, населявших этот дом, в нем, где только можно было, понастроили перегородок и антресолей. В одной из таких каморок, сильно уменьшенных в вышину и в ширину, проживал гражданин Ремакль, консьерж и в то же время портной. Сквозь стеклянную дверь с улицы было видно, как он сидел на столе, поджав под себя ноги и упершись затылком в потолок, за шитьем мундира национального гвардейца, между тем как гражданка Ремакль, плита которой не имела другой тяги, кроме лестницы, отравляла жильцов чадом своей стряпни, а на пороге Жозефина, их дочурка, перепачканная патокой, но прелестная, как ясный день, играла с Мутоном, собакой столяра. По слухам, любвеобильная гражданка Ремакль, пышногрудая и пышнобедрая женщина, дарила благосклонностью гражданина Дюпона-старшего, одного из двенадцати членов Наблюдательного комитета. Во всяком случае, муж сильно подозревал ее в этом, и супруги Ремакль оглашали дом бурными ссорами, чередовавшимися с не менее бурными примирениями. Верхние этажи занимали гражданин Шапрон, ювелир, державший лавку на набережной Башенных Часов, военный лекарь, стряпчий, золотобит и несколько судейских служащих.
Эварист Гамлен поднялся по старинной лестнице на пятый, и последний, этаж, где у него была мастерская с комнаткой для матери. Тут уже кончались деревянные, выложенные изразцами ступени, сменившие широкие каменные ступени нижних этажей. Приставленная к стене лесенка вела в чердачное помещение, откуда в эту минуту как раз спускался пожилой толстяк. Румяное лицо его дышало здоровьем. С трудом прижимая к груди огромный сверток, он все же напевал: «Я потерял, увы, слугу…»
Прекратив пение, он учтиво пожелал Гамлену доброго утра. Эварист дружески поздоровался с ним и помог снести вниз пакет, за что старик был ему очень признателен.
– Это – картонные плясуны, – пояснил он, снова беря свою ношу, – я несу их торговцу игрушками на улице Закона. Здесь целый народ, все – мои создания, я даровал им бренное тело, не знающее ни радостей, ни страданий. Но я не наделил их способностью мыслить, ибо я – бог благостный.
Это был гражданин Морис Бротто, бывший откупщик и дворянин: его отец, нажившись на делах, купил себе дворянство. В доброе старое время Морис Бротто именовался господином дез Илетт и в своем особняке на улице Лашез задавал изысканные ужины, которые освещала своим присутствием прелестная госпожа де Рошмор, жена прокурора, превосходная женщина, честно сохранявшая неизменную верность Морису Бротто дез Илетт, пока революция не лишила его должностей, доходов, особняка, поместий, титула. Революция отняла у него все. Ему пришлось зарабатывать себе на жизнь, рисуя в воротах портреты прохожих, продавая на Сыромятной набережной блины и оладьи собственного изготовления, сочиняя речи для народных представителей, обучая танцам юных гражданок. В настоящее время у себя на чердаке, куда надо было карабкаться по приставной лесенке и где нельзя было выпрямиться во весь рост, Морис Бротто, запасшись горшком с клеем, клубком веревки, ящиком акварельных красок, обрезками картона, мастерил картонных плясунов и сбывал свои изделия оптовикам, а те перепродавали их бродячим торговцам игрушками, которые носили их по Елисейским Полям на длинных жердях, вызывая вожделение ребятишек. В водовороте общественных событий, невзирая на бедствия, постигшие его лично, Бротто сохранял безмятежную ясность духа и читал для развлечения Лукреция, которого всюду таскал с собою в оттопыренном кармане коричневого сюртука.
Эварист Гамлен толкнул входную дверь в свое жилище. Она сразу подалась. Бедность позволяла ему не заводить замка, и, когда мать по привычке задвигала засов, он говорил: «К чему? Никто не станет воровать паутину, а мои картины – тем паче». Покрытые толстым слоем пыли или прислоненные к стене, грудами были свалены в мастерской его первые работы, когда он писал, следуя моде, любовные сцены, робкой, зализанной кистью выводил колчаны без стрел, спугнутых птиц, опасные забавы, мечты о счастье, приподымал юбки у птичниц и расцвечивал розами перси пастушек.
Но эта манера отнюдь не соответствовала его темпераменту. Холодно трактованные игривые сцены обличали неисправимое целомудрие живописца. Знатоки не ошибались на его счет, и Гамлен никогда не слыл у них мастером эротического жанра. Теперь, хотя он еще не достиг тридцати лет, ему казалось, что сюжеты эти относятся к незапамятным временам. Он видел в них растление нравов, неизбежное при монархическом строе, и развращенность двора. Он раскаивался в том, что сам увлекался столь презренным жанром и под влиянием рабства дошел до нравственного падения. Теперь, гражданин свободной нации, он мощными штрихами набрасывал фигуры Свобод, Прав Человека, французских Конституций, республиканских Добродетелей, народных Гераклов, повергающих наземь гидру Тирании, и вкладывал в эти произведения весь свой патриотический пыл. Увы, эти картины тоже не давали ему средств к существованию. Времена для художников были тяжелые. И, разумеется, не по вине Конвента, рассылавшего во все стороны свои армии против королей; гордого, неустрашимого Конвента, не отступившего перед сплоченной Европой, вероломного и безжалостного по отношению к самому себе; Конвента, раздиравшего себя собственными руками, провозгласившего очередной задачей террор, учредившего для наказания заговорщиков беспощадный Трибунал, с тем чтобы вскоре отдать ему на съедение собственных членов, и в то же время спокойного, вдумчивого друга наук и всего прекрасного; Конвента, реформировавшего календарь, основывавшего специальные школы, объявлявшего конкурсы живописи и ваяния, учредившего премии для поощрения художников, устраивавшего ежегодные выставки, открывшего Музей и по примеру Афин и Рима придававшего торжественный характер общественным празднествам и дням народного траура. Но французское искусство, когда-то пользовавшееся таким успехом в Англии, в Германии, в России и в Польше, не находило теперь сбыта за границей. Любители живописи, ценители искусства, вельможи и финансисты были разорены, эмигрировали или скрывались. Люди же, которых революция обогатила, – крестьяне, скупавшие национализированные поместья, спекулянты, поставщики армий, содержатели игорных домов в Пале-Рояле – еще не отваживались выставить напоказ свое богатство да к тому же совсем не интересовались живописью. Чтобы продать картину, нужно было обладать известностью Реньо{12} или ловкостью молодого Жерара{13}. Грёз{14}, Фрагонар{15}, Гуэн{16} дошли до нищеты. Прюдону{17} с трудом удавалось прокормить жену и детей, делая рисунки, которые Копиа гравировал пунктиром. Художники-патриоты, Эннекен, Викар, Топино-Лебрен{18}, голодали. Гамлен, у которого не было средств ни на оплату натурщика, ни на покупку красок, поневоле оставил, едва приступив к работе, огромное полотно, изображавшее «Тирана, преследуемого фуриями в аду». Оно занимало половину мастерской своими незаконченными страшными фигурами больше натуральной величины и множеством зеленых змей с изогнутыми раздвоенными жалами. На переднем плане, слева, стоял в лодке худой, свирепого вида Харон – мощный, прекрасно прорисованный кусок, в котором, однако, чувствовалось ученичество. Гораздо больше даровитости и естественности было в другой картине, меньших размеров, тоже незаконченной и висевшей в самом светлом углу мастерской. Она изображала Ореста, которого сестра его Электра приподымает на ложе скорби{19}. Девушка трогательным жестом поправляла брату спутанные волосы, падающие ему на глаза. Голова Ореста была трагически прекрасна, и в ней нетрудно было уловить сходство с лицом художника.
Гамлен часто с грустью смотрел на эту композицию. Порою его руки, дрожавшие от желания схватить кисть, тянулись к смело набросанной фигуре Электры, но сразу же беспомощно опускались. Художник горел воодушевлением и был полон великих замыслов. Но ему приходилось тратить силы на выполнение заказов, которые удавались ему весьма посредственно, потому что он должен был удовлетворять пошлым вкусам толпы, а также и потому, что не умел сообщать отпечаток таланта всяким пустякам. Он рисовал маленькие аллегорические картинки, которые его товарищ Демаи довольно искусно гравировал в одну или несколько красок и которые за бесценок скупал гражданин Блез, торговец эстампами на улице Оноре. Но продажа эстампов шла изо дня в день хуже и хуже, как уверял Блез, с некоторого времени уже не желавший ничего приобретать.
На этот раз, однако, Гамлену, которого нужда делала изобретательным, пришла в голову счастливая и – так, по крайней мере, казалось ему – новая мысль, осуществление которой должно было обогатить торговца эстампами, гравера и его самого. Речь шла о колоде патриотических карт, в которой короли, дамы и валеты старого режима были бы заменены Гениями, Свободами и Равенствами. Он сделал наброски всех фигур, большинство закончил совсем и торопился сдать Демаи те, которые уже можно было гравировать. Фигура, казавшаяся ему наиболее удачной, представляла собой волонтера в треуголке, синем мундире, с красными отворотами, желтых штанах и черных гетрах; он сидел на барабане, зажав ружье меж колен и упершись ногами в кучу ядер. Это был «гражданин червей», явившийся на смену валету червей. Уже больше полугода рисовал Гамлен волонтеров, и все с тем же увлечением. В дни всеобщего подъема он продал несколько рисунков. Остальные висели на стенах в мастерской. Пять-шесть набросков, исполненных акварелью, гуашью, двухцветным карандашом, валялись на столе и на стульях. В июле девяносто второго года, когда на всех парижских площадях были воздвигнуты помосты для вербовки солдат, когда из всех кабачков, украшенных гирляндами, неслись крики: «Да здравствует нация! Жить свободно или умереть!» – Гамлен, проходя по Новому мосту или мимо ратуши, всем существом рвался туда, к убранному национальными флагами шатру, где магистраты в трехцветных повязках под звуки Марсельезы производили запись добровольцев. Но, поступив в армию, он оставил бы мать без куска хлеба.
Тяжело дыша, так что ее было слышно еще за дверью, вся красная, взволнованная, обливаясь потом, вошла в мастерскую гражданка вдова Гамлен. Национальная кокарда, небрежно приколотая ею к чепцу, могла упасть каждую минуту. Поставив на стул корзинку, она остановилась, чтобы передохнуть, и стала жаловаться на дороговизну продовольствия.
При жизни мужа гражданка Гамлен торговала ножевыми изделиями на улице Гренель-Сен-Жермен, под вывеской «Город Шательро», а теперь, находясь на иждивении сына-художника, вела его скромное хозяйство. Эварист был старший из двоих ее детей. О дочери Жюли, бывшей модистке с улицы Оноре, лучше было и не спрашивать: она бежала за границу с аристократом.
– Господи боже мой, – вздохнула гражданка, показывая сыну серую, плохо пропеченную ковригу, – хлеб все дорожает, да он теперь и не чистый пшеничный. На рынке не найти ни яиц, ни овощей, ни сыру. А питаясь каштанами, сам станешь каштановым.
Помолчав, она продолжала:
– Я видела на улице женщин, которым нечем кормить младенцев. Для бедняков наступили тяжелые времена. И так будет до тех пор, пока не восстановится порядок.
– В недостатке съестных припасов, от которого все мы страдаем, матушка, виноваты скупщики и спекулянты, – сказал Гамлен, нахмурившись, – они морят голодом народ и вступают в соглашение с внешними врагами, стараясь вызвать у граждан ненависть к Республике и уничтожить свободу. Вот к чему приводят заговоры приверженцев Бриссо{20}, предательство Петионов{21} и Роланов!{22} Хорошо еще, что федералисты с оружием в руках не явятся в Париж и не перебьют патриотов, не успевших погибнуть от голода. Нельзя терпеть ни минуты: необходимо установить твердые цены на муку и гильотинировать всех, кто спекулирует съестными припасами, сеет в народе смуту или завязывает преступные сношения с заграницей. Конвент только что учредил Чрезвычайный трибунал для дел о заговорах. В него входят одни лишь патриоты, но хватит ли у них энергии, чтобы защищать отечество от всех его врагов? Будем надеяться на Робеспьера: он добродетелен. В особенности будем надеяться на Марата: он любит народ, понимает его подлинные нужды и служит им. Он первый всегда разоблачал изменников, раскрывал заговоры. Он неподкупен и неустрашим. Он один может спасти Республику, которой угрожает гибель.
Гражданка Гамлен покачала головой, и кокарда упала с ее чепца.
– Полно, Эварист: твой Марат такой же человек, как и все, и ничем не лучше других. Ты молод, ты увлекаешься. То, что ты сейчас говоришь о Марате, ты говорил прежде о Мирабо{23}, о Лафайете{24}, Петионе, Бриссо.
– Никогда этого не было! – запротестовал Гамлен, искренне позабыв о недавнем прошлом.
Очистив местечко на некрашеном деревянном столе, заваленном бумагами, книгами, кистями и карандашами, гражданка Гамлен поставила фаянсовый супник, две оловянные миски и кружку дешевого вина, затем положила две железные вилки и пеклеванный хлеб.
Сын и мать молча съели суп и завершили трапезу кусочком свиного сала. Мать степенно подносила к беззубому рту на кончике карманного ножа ломтики хлеба с салом и с уважением прожевывала пищу, стоившую так дорого.
Большую часть она оставила сыну, но тот глубоко о чем-то задумался и казался рассеянным.
– Ешь, Эварист, – говорила она ему время от времени, – ешь.
И эти слова звучали в ее устах торжественно, как заповедь.
Она снова принялась жаловаться на дороговизну жизни. Гамлен еще раз заявил, что твердые цены – единственный выход из положения.
– Ни у кого уже нет денег, – возражала она. – Эмигранты все забрали. И верить больше некому. Есть от чего прийти в отчаяние.
– Перестаньте, матушка, перестаньте! – накинулся на нее Гамлен. – Разве можно придавать значение временным лишениям и невзгодам? Революция навсегда осчастливит человечество!
Старушка обмакнула ломтик хлеба в вино; на душе у нее отлегло, и она с улыбкой стала вспоминать времена своей молодости, когда в день рождения короля она плясала на открытом воздухе. Ей пришел на память день, когда Жозеф Гамлен, ножовщик по профессии, посватался к ней. И она обстоятельно стала излагать, как это произошло. Мать сказала ей: «Приоденься. Мы сейчас отправимся на Гревскую площадь в магазин господина Бьенасси, ювелира, и посмотрим, как будут четвертовать Дамьена»{25}. Им с трудом удалось пробраться сквозь толпу любопытных. У господина Бьенасси девушка встретила Жозефа Гамлена в прекрасном розовом полукафтане и сразу догадалась, к чему идет дело. Все время, пока она смотрела в окно, как цареубийцу терзали щипцами, обливали расплавленным свинцом, разрывали на части, привязав к четырем лошадям, и, наконец, бросили в огонь, Жозеф Гамлен, стоя сзади, не переставал восхищаться цветом ее лица, прической, стройностью ее фигуры.
Осушив до дна стакан, она продолжала мысленно переживать свою жизнь.
– Я родила тебя, Эварист, раньше, чем ожидала… потому что я испугалась, когда меня, беременную, чуть не сбили с ног на Новом мосту любопытные, торопившиеся на казнь господина де Лалли{26}. Ты появился на свет совсем крохотным, и лекарь не думал, что ты выживешь. Но я-то не сомневалась, что Господь по милости Своей сохранит мне тебя. Я воспитывала тебя, как только могла, не жалея ни трудов, ни затрат. Что и говорить, Эварист, ты всегда выказывал мне признательность и уже с детских лет старался отплатить мне за заботы чем только мог. Ты от рождения был кроток и ласков. У твоей сестры тоже незлое сердце, но она отличалась себялюбием и вспыльчивостью. Ты был жалостливее ее ко всем несчастным. Когда соседские мальчишки разоряли птичьи гнезда, ты старался вырвать у них птенцов, чтобы вернуть их матерям, и нередко случалось так, что ты уступал лишь после того, как тебя валили наземь и нещадно избивали. Семилетним ребенком, никогда не вступая в драку с сорванцами, ты спокойно шел по улице, повторяя про себя катехизис; всех нищих, попадавшихся тебе навстречу, ты приводил домой, чтобы я помогла им; мне даже пришлось высечь тебя, чтобы отучить от этой привычки. Ты не мог смотреть без слез на чьи-либо страдания. Когда ты вырос, ты стал очень хорош собою. К великому моему удивлению, ты как будто не догадывался об этом, в отличие от большинства смазливых молодых людей, которые щеголяют и чванятся своей наружностью.
Старушка говорила правду. В двадцать лет у Эвариста было очаровательное и вместе с тем серьезное лицо; это была женственно-строгая красота, черты Минервы. Теперь его темные глаза и бледные щеки свидетельствовали о глубокой печали и затаенных страстях. Но взгляд его, когда он посмотрел на мать, принял на мгновение то кроткое выражение, которое ему было свойственно в ранней юности.
Она продолжала:
– Ты мог бы воспользоваться своей привлекательностью и ухаживать за девушками, но ты предпочитал оставаться со мною в лавке, так что иногда я сама предлагала тебе не держаться за мою юбку, а развлечься с товарищами. И на смертном одре я повторю, Эварист, что ты хороший сын. После кончины отца ты не побоялся взять на себя заботы обо мне, хотя твоя профессия не приносит почти ничего; я благодаря тебе не знала, что такое нужда, и если теперь мы с тобою разорены и обнищали, я тебя не упрекаю: виною всему революция.
У него вырвался жест протеста, но она, пожав плечами, продолжала:
– Я не дворянка. Я знавала аристократов, когда сила была на их стороне, и могу сказать, что они злоупотребляли своими привилегиями. На моих глазах слуги герцога Каналея избили палками твоего отца за то, что он недостаточно быстро посторонился, чтобы уступить дорогу их господину. Я не любила Австриячку{27}, она была слишком высокомерна и расточительна. Короля, правда, я считала неплохим человеком и только после его процесса и осуждения переменила мнение о нем. Словом, я не жалею о старом режиме, хотя и при нем я знавала кой-какую радость. Но не говори мне, что революция установит равенство: люди никогда не будут равны. Это невозможно, хотя бы вы всё здесь перевернули вверх дном: всегда будут люди знатные и безвестные, жирные и тощие.
Говоря, она убирала посуду. Художник уже не слушал ее. Он набрасывал силуэт санкюлота в красном колпаке и карманьоле, который должен был в его колоде заменить упраздненного валета пик.
Кто-то постучался в дверь, и на пороге показалась молодая крестьянка, коренастая, занимавшая больше места в ширину, чем в высоту, рыжая, кривоногая, с бельмом на левом глазу; правый глаз, бледно-голубого цвета, казался совсем белым; непомерно толстые губы были оттопырены торчащими вперед зубами.
Обратившись к Гамлену, она осведомилась, не он ли живописец и не согласится ли он написать портрет ее жениха, Феррана (Жюля), волонтера Арденнской армии.
Гамлен ответил, что охотно сделает портрет, когда доблестный воин вернется в Париж.
Девушка кротко, но вместе с тем настойчиво продолжала упрашивать, чтобы он сделал это тут же.
Художник, невольно улыбнувшись, возразил, что без оригинала это совершенно невозможно.
Бедняжка ничего не ответила: она не предвидела такого затруднения. Склонив голову на левое плечо, скрестив руки на животе, она не трогалась с места и молчала, по-видимому сильно огорченная. Ее простодушие и трогало и забавляло Гамлена; чтобы утешить незадачливую влюбленную, он сунул ей акварельный рисунок, изображавший волонтера, и спросил, не напоминает ли он ей жениха, находящегося в Арденнах.
Она устремила на бумагу тусклый взор; мало-помалу ее зрячий глаз оживился, потом разгорелся, просиял; широкое лицо расплылось в счастливую улыбку.
– Да это он и есть, – выговорила она наконец. – Это Ферран Жюль как живой, вылитый Ферран Жюль.
Прежде чем художник успел взять у нее рисунок, она толстыми красными пальцами бережно сложила его, так что он превратился в небольшой квадратик, и, сунув его себе за пазуху между рубахой и корсажем, вручила Гамлену ассигнацию в пять ливров, пожелала присутствующим счастливо оставаться и вперевалку радостно вышла из комнаты.