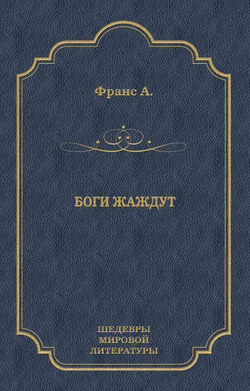Читать книгу Боги жаждут - Анатоль Франс, Анатоль Франс - Страница 6
Глава V
ОглавлениеВ девять часов утра Эварист уже застал в Люксембургском саду Элоди, ожидавшую его на скамье.
Прошел месяц с тех пор, как они объяснились в любви, и теперь они ежедневно встречались то в «Амуре-живописце», то в мастерской на Тионвильской площади. Свидания эти были очень нежны, но все же носили на себе печать известной сдержанности, которую налагал на них добродетельный и степенный характер Гамлена: деист и безупречный гражданин, он готов был соединить свою судьбу с судьбою любимой женщины, смотря по обстоятельствам, – перед лицом закона или перед лицом одного лишь Господа, но соглашался сделать это лишь открыто, не таясь от людей. Элоди отдавала должное столь благородному решению, но, отчаявшись вступить в брак, невозможный по многим причинам, и отказываясь вместе с тем кинуть вызов общественным приличиям, она в глубине души лелеяла мысль о тайной связи, которая, не бросаясь в глаза, с течением времени приобрела бы уважение окружающих. Она надеялась, что в один прекрасный день ей удастся преодолеть щепетильность своего слишком почтительного возлюбленного, и, не желая дольше откладывать необходимых признаний, она назначила ему свидание в безлюдном саду, близ монастыря картезианцев.
Взглянув на Эвариста с неподдельной нежностью, она взяла его за руку, усадила рядом с собой и заговорила, тщательно выбирая каждое слово:
– Я слишком уважаю вас, Эварист, чтобы таиться от вас. Я считаю себя достойной вас: я не была бы такой, если бы не сказала вам всего. Выслушайте меня и будьте моим судьей. Я не могу упрекнуть себя в подлом, низком или хотя бы корыстном поступке. Я была лишь слишком слаба и легковерна… Не упускайте из виду, мой друг, тяжелых обстоятельств, в которых я находилась. Вы знаете, я рано потеряла мать; отец, еще молодой человек, думал только о развлечениях и уделял мне мало внимания. Я выросла чувствительной девушкой: природа наделила меня нежным, любвеобильным сердцем, и, хотя она не отказала мне в здравом смысле, в ту пору чувство брало во мне верх над рассудком. Увы, оно и сейчас оказалось бы сильнее, если бы они оба – чувство и рассудок – не советовали мне, Эварист, отдаться вам безраздельно и навсегда!
Она выражалась сдержанно и вместе с тем энергично. Каждое слово ее было обдумано заранее; она уже давно решилась на эту исповедь: во-первых, потому, что обладала открытым характером, во-вторых, потому, что ей нравилось подражать Жан-Жаку, и, наконец, потому, что она благоразумно убеждала самое себя: «Рано или поздно Эваристу откроется тайна, которая принадлежит не мне одной; добровольное признание возвысит меня в его глазах и избавит от позора разоблачений со стороны». Влюбчивая, покорная голосу природы, она считала себя не очень виновной, и потому эта исповедь не слишком тяготила ее; кроме того, она собиралась рассказать Эваристу лишь самое необходимое.
– Ах, дорогой Эварист, – вздохнула она, – почему мы с вами не встретились в то время, когда я была одна, покинутая?
Гамлен понял буквально просьбу Элоди быть ей судьей. Предрасположенный от природы и подготовленный литературным воспитанием к роли доморощенного блюстителя справедливости, он собирался выслушать признание Элоди.
Видя, что она колеблется, он знаком предложил ей говорить.
И она сказала совсем просто:
– Один молодой человек, обладавший помимо дурных качеств также и хорошими и выставлявший напоказ только хорошие, нашел меня довольно привлекательной и стал ухаживать за мной с настойчивостью, которая в нем могла показаться даже странной: он был во цвете лет, изящен и имел несколько любовниц, прелестных женщин, откровенно обожавших его. Не красотой и даже не умом пленил он меня… Ему удалось тронуть меня своей любовью, и я думаю, что он действительно меня любил. Он был нежен, предупредителен. Я не требовала от него ничего, кроме сердца, а сердце его было непостоянно… Я виню только себя: это – моя исповедь, а не его. Я не жалуюсь на него: ведь он стал мне чужим. О, клянусь вам, Эварист, его как будто и не существовало!
Она умолкла. Гамлен ничего не ответил; он скрестил руки на груди, мрачным взором он уставился на подругу. Он думал о ней и о своей сестре Жюли. Жюли тоже вняла уговорам любовника. Но, в отличие от несчастной Элоди, она дала себя увезти не потому, что по неопытности послушалась голоса сердца, а потому, что хотела найти вдали от своих роскошь и наслаждения. Со свойственной ему суровостью Гамлен осудил сестру и склонен был осудить свою возлюбленную.
Элоди кротким голосом продолжала:
– Начитавшись философских книг, я верила, что все люди по самой природе своей честны{46}. К несчастью, судьба толкнула меня в объятия человека, который не был воспитан в школе природы и нравственности и которого общественные предрассудки, тщеславие, самолюбие и ложное понятое о чести сделали вероломным эгоистом.
Эти заранее заготовленные слова произвели желаемое впечатление. Взор Гамлена смягчился.
– Кто ваш соблазнитель? – спросил он. – Знаю ли я его?
– Вы его не знаете.
– Назовите его имя.
Она предвидела этот вопрос и твердо решила не отвечать на него.
– Избавьте меня от этого, прошу вас, – убеждала она его. – И без того я слишком много сказала вам, слишком много – и для себя, и для вас.
Так как он продолжал настаивать, она прибавила:
– В интересах священной для нас любви я не скажу ничего, что позволило бы вам представить себе облик этого… чужого мне человека. Я не хочу давать пищу вашей ревности, не хочу ставить между вами и мной назойливый призрак. К чему теперь, когда я позабыла об этом человеке, вам о нем знать?
Гамлен все-таки добивался, чтобы она назвала имя соблазнителя: он упорно употреблял это слово, ибо не сомневался, что Элоди была соблазнена, обманута, пала жертвой своей доверчивости. Он даже не допускал мысли, что дело могло обстоять иначе, что Элоди уступила своему влечению, влечению непреодолимому, вняла тайному голосу плоти и крови; он не допускал мысли, что это сладострастное и нежное создание, эта очаровательная жертва любви отдалась добровольно; ему, в соответствии с его взглядами, надо было верить, что ею овладели силой или хитростью, что ее принудили к этому, что она попалась в одну из ловушек, расставленных на каждом шагу. Он задавал ей вопросы, внешне сдержанные, но точные, сжатые и смущавшие ее. Он допытывался, как возникла эта связь, сколько она продолжалась, была ли она спокойной или бурной и как прекратилась. Без конца он осведомлялся, к каким средствам обольщения прибег этот человек, как будто это должны были быть какие-то необыкновенные, неслыханные приемы. Все эти вопросы он задавал напрасно. Молча взывая о пощаде, она смотрела на него кроткими, полными слез глазами и не проронила ни звука.
Но когда он пожелал узнать, где в настоящее время находится этот человек, она ответила:
– Он покинул королевство… – И сразу же поправилась: – Францию.
– Эмигрант! – вскричал Гамлен.
Она безмолвно взглянула на него, успокоенная и в то же время опечаленная тем, что он создал себе домысел, соответствовавший его политическим убеждениям, и, не имея на то никаких оснований, сообщил своей ревности якобинскую окраску.
В действительности же любовник Элоди был писец прокурора, очень красивый юноша, мелкий клерк с головой херувима, в которого она без памяти была влюблена, так что даже теперь, по прошествии трех лет, мысль о нем вызвала жар у нее в груди. Он искал близости с женщинами немолодыми, но богатыми и оставил Элоди ради дамы, искушенной в науке страсти и щедро вознаграждавшей его заслуги. После упразднения старых учреждений он поступил на службу в Парижскую мэрию, а в настоящее время был драгуном-санкюлотом и находился на содержании у бывшей дворянки.
– Аристократ! Эмигрант! – повторял Гамлен, а она не разуверяла его, так как совсем не хотела, чтобы он знал всю правду. – И он подло бросил тебя?
Она наклонила голову. Он прижал ее к сердцу.
– Дорогая жертва безнравственного самовластья! Я отомщу этому гнусному развратнику! Только бы небо помогло мне встретить его! Я узнаю его!
Она отвернулась, улыбаясь, но в то же время огорченная и разочарованная. Ей хотелось, чтобы он был смышленее в делах любви, проще, грубее. Она сознавала, что он простил ее так скоро только потому, что обладал недостаточно пылким воображением, что ее исповедь не пробудила в нем ни одной из тех картин, которые так мучительны для людей чувственных, и, наконец, потому, что он увидел в ее обольщении лишь факт морального и социального значения.
Они поднялись и пошли по зеленым аллеям сада. Он говорил ей, что еще больше уважает ее за пережитые страдания. Элоди этого и не требовала. Она любила его, каков он есть, и восхищалась его талантливостью, которую считала бесспорной.
По выходе из Люксембургского сада они увидели на улице Равенства и вокруг Национального театра большое скопление народа, что не было для них неожиданностью, – уже несколько дней в наиболее патриотически настроенных секциях царило сильное возбуждение: там раскрыли заговор орлеанистов{47} и сообщников Бриссо, которые, по слухам, поставили себе целью погубить Париж и перебить всех республиканцев. Гамлен сам еще недавно подписал петицию Коммуны, требовавшую исключения из Конвента группы «Двадцати одного»{48}.
Прежде чем пройти под аркой, соединявшей театр с соседним домом, им пришлось пробраться сквозь толпу граждан в карманьолах, к которым, стоя на галерее, обращался с речью молодой военный в шлеме, обтянутом шкурой пантеры. Этот красавец, который мог бы поспорить наружностью с «Эротом» Праксителя, обвинял Друга народа в беспечности.
– Ты спишь, Марат, – восклицал он, – а федералисты меж тем куют для нас оковы!
Как только Элоди заметила его, она взволнованно обратилась к Гамлену:
– Уйдем отсюда, Эварист!
Толпа, говорила она, пугает ее: она боится упасть в обморок в этой давке.
Они расстались на Национальной площади, обменявшись клятвами в вечной любви.
В тот же день, рано утром, гражданин Бротто принес в подарок гражданке Гамлен великолепного каплуна. С его стороны было бы крайней неосторожностью рассказать, каким образом он раздобыл его, ибо он получил его от рыночной торговки, которой иногда писал письма, примостившись у одного из выступов церкви Святого Евстафия, а ни для кого не было тайной, что рыночные торговки питают роялистские чувства и поддерживают сношения с эмигрантами. Гражданка Гамлен с признательностью приняла каплуна. Такой птицы давно уже никто не видывал: съестные припасы дорожали с каждым днем. Народ опасался голода; аристократы, по слухам, желали, а спекулянты всеми способами подготовляли его.
Гражданин Бротто, которого пригласили полакомиться каплуном, явившись в полдень, пришел в восхищение от приятного запаха стряпни и высказал это хозяйке. В самом деле, мастерская художника была полна благоуханием жирного бульона.
– Вы очень любезны, сударь, – ответила старушка. – Чтобы подготовить желудки к восприятию вашего каплуна, я сварила суп из зелени, положив туда корочку свиного сала и толстую говяжью кость. Ничто не придает такого аромата супу, как мозговая кость.
– Весьма похвальное суждение, гражданка, – заметил старик Бротто. – Вы поступите вполне благоразумно, если завтра, послезавтра и до конца недели будете класть драгоценную кость в кастрюлю, – она придаст супу аромат. Сивилла из Панзуста{49} поступала именно таким образом: она варила похлебку из свежей капусты с корочкой пожелтевшего свиного сала и с уже бывшим в употреблении саворадо. Саворадо у нее на родине – кстати сказать, это и моя родина – называют мозговую кость, которая так вкусна и питательна.
– А не находи те ли вы, сударь, что дама, о которой вы говорите, была слишком уж расчетлива, варя так долго одну и ту же кость? – заметила гражданка Гамлен.
– Она жила очень скромно, – ответил Бротто. – Она очень нуждалась, хотя и была прорицательницей.
В эту минуту вошел Эварист Гамлен. Глубоко взволнованный только что сделанными ему признаниями, он дал себе слово выяснить, кто соблазнитель Элоди, чтобы отомстить одновременно и за Республику, и за любимую женщину.
Обменявшись с Эваристом обычными приветствиями, гражданин Бротто продолжал:
– Лишь в самых редких случаях люди, занимающиеся предсказанием судьбы, наживают себе состояние. Их проделки очень скоро всплывают наружу. Их начинают ненавидеть за обман. Но их следовало бы ненавидеть еще больше, если бы они действительно предрекали будущее. Ведь жизнь человека стала бы невыносима, если бы он знал, что с ним должно приключиться. Его взору предстали бы все грядущие несчастия, и он страдал бы от них заранее и уже не мог бы наслаждаться благами, отпущенными ему судьбой, так как предвидел бы их конец. Неведение – условие, необходимое для человеческого счастья, и надо признать, что чаще всего люди вполне удовлетворяют этому требованию. О самих себе мы не знаем почти ничего, о наших ближних – ничего. Неведение обеспечивает нам спокойствие, а ложь – счастье.
Гражданка Гамлен поставила миску с супом на стол, прочла Benedicite, усадила сына и гостя, а сама принялась есть стоя, отказавшись от предложения Бротто сесть рядом с ним, так как, объяснила она, ей известно, к чему ее обязывает учтивость.