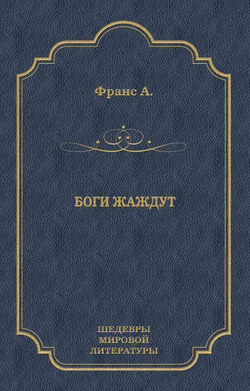Читать книгу Боги жаждут - Анатоль Франс, Анатоль Франс - Страница 5
Глава IV
ОглавлениеБыло десять часов утра. Апрельское солнце заливало светом нежную зелень деревьев. Освеженный ночной грозою воздух был полон сладостной истомы. Изредка всадник, проскакав по Вдовьей аллее, нарушал безмолвие уединенного уголка. В конце тенистой аллеи, напротив хижины, носившей название «Лилльская красавица», Эварист, сидя на деревянной скамейке, поджидал Элоди. С того дня как их пальцы встретились на батистовом шарфе и дыхание смешалось, он не был ни разу в «Амуре-живописце». Целую неделю гордый стоицизм и все возраставшая робость удерживали его вдали от Элоди. Он отправил ей пылкое письмо, мрачное и серьезное, в котором, излагая причины своего недовольства гражданином Блезом, но умалчивая о своей любви и скрывая скорбь, заявлял о принятом им решении не переступать порога лавки и, по-видимому, собирался сдержать слово с твердостью, которая вовсе не улыбалась влюбленной девушке.
Обладая совсем противоположным характером, Элоди, ни за что не желавшая поступаться тем, что она считала своим добром, сразу стала раздумывать, как бы вернуть себе друга сердца. Сначала она намеревалась пойти прямо к нему в мастерскую, на Тионвильскую площадь. Но, зная, что он отличается хмурым нравом и, судя по письму, сильно раздражен, а также опасаясь, как бы он не перенес на нее злобу, которую питал к отцу, и не стал избегать ее в дальнейшем, она решила, что лучше назначить ему сентиментальное и романическое свидание, от которого он никак не может уклониться и которое даст возможность переубедить и пленить его, ибо уединение поможет ей его очаровать и покорить.
В ту пору во всех английских парках, во всех модных местах гуляний по чертежам искусных архитекторов были сооружены хижины, удовлетворявшие склонности горожан к сельской жизни. Хижина «Лилльская красавица», арендованная продавцом лимонада, упиралась одной из своих якобы ветхих стен в искусственные развалины старинной башни, соединяя таким образом прелесть сельского ландшафта с меланхолией руин. Очевидно, считая, что для чувствительных сердец еще недостаточно хижины и разрушенной башни, продавец лимонада соорудил под ивой могильный холм и водрузил на нем колонну с погребальной урной, украшенную надписью: «Клеониса своему верному Азору». Хижины, развалины, гробницы! Накануне своей гибели аристократия воздвигала в наследственных парках эти символы нищеты, уничтожения и смерти. А теперь горожане-патриоты с удовольствием пили, плясали, предавались любви в искусственных хижинах, в тени искусственных развалин искусственных монастырей, среди искусственных гробниц, ибо они тоже были поклонниками природы, учениками Жан-Жака, тоже обладали чувствительными, мечтательными сердцами.
Явившись на свидание ранее назначенного часа, Эварист стал ожидать, измеряя время, как маятником, биением собственного сердца. Прошел патруль, ведя куда-то арестованных. Минут через десять женщина, вся в розовом, с букетом в руке, как этого требовала мода, проскользнула в хижину в сопровождении кавалера в треуголке, красном фраке, полосатом жилете и полосатых панталонах; оба до того были похожи на старорежимных щеголей, что поневоле приходилось согласиться с гражданином Блезом, утверждавшим, будто у людей есть такие свойства, которые не в состоянии изменить никакая революция.
Спустя еще несколько минут старуха с цилиндрической, ярко размалеванной коробкой в руках, пришедшая из Рюэля или Сен-Клу, уселась на скамью, на которой ожидал Гамлен. Коробку, крышка которой была снабжена рулеткой со стрелой для гадания, женщина поставила перед собой. Она предлагала детишкам, игравшим в саду, попытать счастья. Торговала она печеньем, называвшимся прежде «облатками», а теперь переименованным в «утехи». Потому ли, что традиционный термин «облатка» наводил на докучливую мысль об евхаристии и христианском долге, потому ли, что всем надоело старое название, но «облатки» стали называть тогда «утехами».
Старуха отерла концом передника пот со лба и разразилась жалобами, обращаясь к небу и обвиняя Бога в несправедливости за то, что его созданиям приходится так тяжело. Ее муж держал кабачок в Сен-Клу, на берегу реки, а она ежедневно ходила по Елисейским Полям со своей трещоткой, выкликая: «Утех, кому утех, сударыни!» И все-таки они не могли прокормить себя на старости лет.
Видя, что сосед по скамейке готов пожалеть ее, она принялась обстоятельно излагать причину своих невзгод. Виной всему Республика, которая, разорив богачей, вырвала у бедняков последний кусок хлеба изо рта. Нечего и надеяться на лучшее. Напротив, судя по многим признакам, дела пойдут все хуже и хуже. В Нантере женщина родила ребенка с головой гадюки; в Рюэле молния ударила в церковь и расплавила крест на колокольне; в Шавильском лесу видели оборотня. Люди в масках отравляют источники и разбрасывают порошки, распространяющие заразу…
Эварист увидел Элоди, выходившую из коляски. Он кинулся ей навстречу. Глаза молодой женщины блестели в прозрачной тени соломенной шляпы; на губах, пунцовых, как гвоздики, которые она держала в руке, играла улыбка. Черный шелковый шарф, перекрещивавшийся на груди, сзади был завязан бантом. Желтое платье подчеркивало быстрые движения колен и открывало ноги в туфельках без каблуков. Бедра не были стянуты, так как революция освободила стан гражданок от корсета; однако юбка, еще вздувавшаяся на боках, скрывала формы, преувеличивая их и пряча под своей пышностью подлинные очертания фигуры.
Он хотел заговорить, но не находил слов и упрекал себя за смущение, не зная, что Элоди оно приятнее самых любезных речей. От ее внимания также не ускользнуло – и она сочла это хорошим признаком, – что галстук у него повязан тщательнее обыкновенного. Она протянула Эваристу руку.
– Я хотела повидать вас, побеседовать с вами, – сказала она. – На ваше письмо я не ответила: оно мне не понравилось; я не узнала в нем вас. Будь оно более естественно, оно было бы любезнее. Я умалила бы достоинства вашего характера и вашего ума, если бы поверила, что вы в самом деле не желаете больше приходить на улицу Оноре только потому, что слегка повздорили о политике с человеком гораздо старше вас. Будьте покойны, вам нечего опасаться дурного приема со стороны отца, когда вы снова явитесь к нам. Вы не знаете его: он не помнит ни того, что сам сказал, ни того, что вы ответили. Я вовсе не утверждаю, что между вами существует большая симпатия, но он незлопамятен. Говорю вам откровенно: он не слишком интересуется ни вами… ни мной. Он поглощен своими делами и развлечениями.
Она направилась к деревьям, окружавшим хижину, куда он последовал за нею не без некоторого отвращения, так как знал, что это – место свиданий с продажными женщинами и приют мимолетной любви. Она выбрала столик в самом укромном уголке.
– Как много должна я вам сказать, Эварист! Дружба имеет свои права; вы позволите мне воспользоваться ими? Я хочу поговорить с вами – главным образом о вас… и немножко о себе, если вы ничего не имеете против.
Продавец лимонада принес графин и стаканы, и Элоди сама, как хорошая хозяйка, наполнила их; затем она рассказала Эваристу про свое детство, про мать, красоту которой она охотно превозносила и как любящая дочь, и потому, что считала ее источником собственной красоты. Она с уважением говорила о том, какие крепкие люди были ее предки, – ибо она гордилась своей буржуазной кровью! Она рассказала также, как, потеряв в шестнадцатилетнем возрасте обожаемую мать, она с тех пор жила без ласки, без поддержки. Обрисовала себя, какой была и в самом деле: живой, чувствительной, смелой женщиной, и прибавила:
– Эварист, я провела слишком печальную и одинокую юность, чтобы не оценить такого сердца, как ваше, и, предупреждаю вас, не откажусь по собственной воле и без борьбы от чувства симпатии, на которое, мне казалось, я могу рассчитывать и которое мне дорого.
Эварист с нежностью посмотрел на нее:
– Неужели, Элоди, я вам не безразличен? Смею ли я этому верить?..
Он замолчал из боязни сказать лишнее и, следовательно, злоупотребить столь доверчиво предложенной дружбой.
Она с открытым видом протянула ему свою маленькую руку, выглядывавшую наполовину из длинного, узкого, отделанного кружевом рукава. Грудь ее вздымалась от глубоких вздохов.
– Припишите мне, Эварист, все чувства, которые вы хотели бы, чтобы я к вам питала, и вы не ошибетесь.
– Элоди, Элоди, повторите ли вы это, когда узнаете… – Он запнулся.
Она опустила глаза.
Он шепотом докончил:
– …что я люблю вас?
При этих словах она покраснела от удовольствия. В ее глазах он мог бы прочитать нежную страсть, но в то же время, против воли, насмешливая улыбка приподымала уголки ее рта.
Она думала: «И он воображает, будто объяснился первым!.. А может быть, он даже боится, что рассердил меня!..»
Она ласково сказала ему:
– Вы, значит, не заметили, друг мой, что я вас люблю?
Им казалось, что они одни во всем мире. В порыве восторга Эварист устремил взор к залитому солнцем лазурному небосводу.
– Глядите: небо смотрит на нас! Оно так же восхитительно, так же благосклонно, как и вы, моя любимая: оно, подобно вам, ослепляет своим блеском, подобно вам, кротко улыбается…
Он чувствовал себя слившимся со всей природой, он приобщил ее к своей радости, к своему торжеству. Ему представлялось, что, празднуя его обручение, канделябрами загорались цветы каштанов и вспыхивали исполинские факелы тополей.
Он наслаждался своей силой и величием. Она, более нежная и тонкая, более гибкая и податливая, уже считала себя вправе воспользоваться преимуществами слабого пола и, покорив Эвариста, подчинялась его воле; завладев им, она теперь видела в нем господина, героя, бога, сгорала от желания восхищаться им, повиноваться, отдаваться ему. В тени деревьев он запечатлел на ее устах долгий пламенный поцелуй; она запрокинула голову и в объятиях юноши почувствовала, что тело ее становится мягким, как воск.
Они еще долго разговаривали о самих себе, позабыв обо всем на свете. Эварист высказывал мысли, преимущественно неопределенные и возвышенные, от которых молодая женщина приходила в восторг. Элоди вела речь о вещах приятных, практических и касавшихся только их. Потом, когда она сочла, что дольше оставаться нельзя, она поднялась с решительным видом, дала своему возлюбленному три пунцовых гвоздики, взращенные ею на окне, и впорхнула в кабриолет, в котором приехала. Это была наемная коляска на очень высоких колесах, выкрашенная в желтый цвет; ни в ней, ни в кучере не было решительно ничего примечательного, но Гамлен никогда не пользовался наемными колясками и все окружавшие его тоже. Когда он увидел Элоди в кабриолете на огромных, быстро катящихся колесах, у него сжалось сердце от печального предчувствия: он мучительно ясно, как это бывает только при галлюцинации, представил себе, что лошадь увозит Элоди прочь от действительности, за пределы настоящего, в какой-то роскошный, веселый город, к пышным чертогам, на лоно наслаждений, куда он не вступит никогда.
Кабриолет скрылся из виду. Смятение Эвариста улеглось, но осталась глухая тоска: он чувствовал, что пережитых здесь часов нежности и забвения ему уже больше не испытать.
Он направился домой Елисейскими Полями, где женщины в светлых платьях шили или вышивали, сидя на деревянных стульях, между тем как дети их играли под деревьями. Увидев торговку «утехами» с коробкой в форме барабана, он вспомнил торговку «утехами» во Вдовьей аллее, и ему показалось, будто между этими двумя встречами прошла целая полоса его жизни. Он пересек площадь Революции. В Тюильрийском саду он издали услыхал мощный гул великих дней революции, единодушный голос людских толп, который, по мнению врагов Республики, умолк навсегда. Ускорив шаги навстречу все возраставшему шуму, он очутился на улице Оноре, сплошь усеянной мужчинами и женщинами, кричавшими: «Да здравствует Республика! Да здравствует свобода!» Стены садов, окна, балконы, крыши были унизаны зрителями, махавшими шляпами и носовыми платками. Предшествуемый сапером, который расчищал дорогу кортежу, окруженный муниципальными властями, национальными гвардейцами, артиллеристами, жандармами, гусарами, медленно плыл над головами граждан человек с желчным цветом лица; на лбу у него красовался венок из дубовых листьев, на плечи был накинут ветхий зеленый плащ с горностаевым воротником. Женщины осыпали его цветами. Он смотрел вокруг желтыми, пронизывающими насквозь глазами, как будто в этой охваченной энтузиазмом толпе выискивал врагов народа, которых надлежало разоблачить, изменников, которых надлежало покарать. Поравнявшись с ним, Гамлен обнажил голову и, присоединяя свой голос к сотням тысяч других голосов, крикнул:
– Да здравствует Марат!
Триумфатор вступил, как рок, в залу Конвента. Между тем как толпа медленно расходилась, Гамлен, сидя на тумбе, сдерживал рукою биение сердца. Зрелище, очевидцем которого он только что был, наполнило все его существо возвышенным волнением и пламенным восторгом.
Он чтил и любил Марата, который, страдая воспалением вен, больной, мучимый язвами, отдавал остаток своих сил на служение Республике и в своем бедном, для всех открытом доме принимал его с распростертыми объятиями, говорил ему с увлечением об общем благе, порою расспрашивал о происках злодеев. Теперь Эварист был в восхищении, увидав, что враги Марата, замышлявшие его гибель, уготовили ему триумф; он благословлял Революционный трибунал, который, оправдав Друга народа{45}, вернул Конвенту самого ревностного и самого безупречного из законодателей. Он еще видел перед собою лихорадочный взор, чело, увенчанное символом гражданской доблести, лицо, выражавшее благородную гордость и безжалостную любовь, изнуренное недугом, высохшее, неотразимое, перекошенный рот, широкую грудь, всю фигуру умирающего исполина, который с высоты людской победной колесницы, казалось, обращался к согражданам: «Будьте, подобно мне, патриотами до гробовой доски!»
Улица уже опустела, ночь покрыла ее мраком; с фонарем в руке прошел мимо ламповщик, а Гамлен все еще повторял про себя:
– До гробовой доски!..