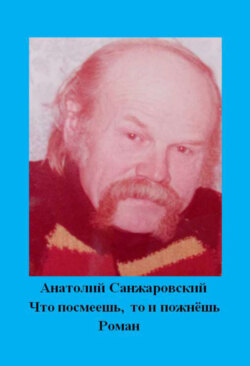Читать книгу Что посмеешь, то и пожнёшь - Анатолий Санжаровский - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава четвёртая
7
Оглавление– Так пошли ко мне, – повторил Митрофан.
– Потом. А сейчас мне некогда. К первому надо!
– Успокойся, брателко… Не пи́сай кипятком. Именно к кому тебе надо? У нас сейчас на выбор два. Один бывший, другой будущий. Но нет ни одного настоящего.
– Толком объясни. Без предисловий.
– А что объяснять? – убавил он голос. – Челночная дипломатия. Обмен бандюгами, якорь тебя! Пендюрик, по слухам, даёт тягу в область. Новый – какой-то сторонний, заезжий, фамилию ещё не знаю – из области сюда. Кажется, из области. А там тот-то его знает… Вроде дела принимает. Или только пока присматривается-принюхивается… Зарылись в кабинете-яме у первого. Пендюрин, ёханый бабай, мрачно делится воспоминаниями. Вспоминать, – качнулся он ко мне, – ох и многое приходится, лопатой не прогрести. Эту материю не замнёшь… Вот таковецкие делишки в мире животных!
– Ты на что-то намекаешь?
– Дык, суровая действительность, милый, в намёках не нуждается.
Мне начинал надоедать этот балаганный пустобрёх на виду у всех. Я взял по ступенькам кверху.
Митрофан нагнал меня.
– Ёлы-палы! – тронул, конфузясь, меня за локоть. – Старшему брательнику не веришь? Говорю ж, межвластёха! Не на экскурсию сам сюда залетал. О надо было! – приставил ребро ладони к трёхнакатному подбородку. – А ни с чем отбываю. Айда самолётом[157] лучше ко мне в башню, пока мой бабий батальон в увольнительной до вечера. Посидим, поокаем. А то, братило, как-то неловко. Летом с Валентинкой был всего раз. А мы ж не чужие, якорь тебя! Одного, долговского, замеса…
Справа к райкому подбегал сквер.
Не сговариваясь, мы пошли по скверу напрямик. Так ближе и вдобавок всё время видать Митрофанов скворечник. Первый в Верхней Гнилуше двухэтажник из белого кирпича на шестнадцать квартир, в одной из которых шиковал Митрофан, и впрямь птицей плыл над мелкорослыми деревянными хибарками с косопузыми сарайчиками и немыслимыми пристройками и пристроечками, что пластались вокруг в осиротелых садах.
Митрофан вышагивал чуть впереди, и всякий раз, когда мы приближались к ветвистому снизу дереву, набавлял шагу, отводил в сторону мокрые пустые, без листьев, ветки и ждал, покуда не пройду я, и по чавкающей под ногами сыри, трудно сопя, будто воз глины нёс, колыхался, обгоняя меня, к новому дереву.
Мне не нравилась эта его нарочитая внимательность. Выпалить про это я не решался, не желая в первый же час щёлкать его по самолюбию.
Не давай обгонять себя, и его внимательность кончится, сказал я себе. Оттого дальше мы шли уже быстрее, поскольку, приближаясь к дереву, он убыстрял шаг, убыстрял и я, стараясь первым пройти мимо торчащих веток с вислыми прозрачными капельками.
И так мы разогнались, что на свою площадку на втором этаже он, кажется, не поднимался по гулкой ярко-оранжевым выкрашенной лестнице, а попросту вспорхнул и поклонился двери – нагнулся разуться перед порогом.
Всё пространство у порога было закидано детской и прочей обувкой.
Из прихожей роскошные дорожки текли на кухню и в вопиюще-просторную гостиную, из гостиной – ещё в две боковые комнаты; в одной (двери были настежь), в детской, на кровати плашмя лежал растянутый баян.
Как на выставке, все стены сплошь одернуты дорогими коврами. Дорогие шкафы и всё дорогое в шкафах, дорогая посуда под стеклом в серванте и всего одна полочка в том же серванте под книжками, да и та наполовину пуста. Как-то жалко стоят внаклонку одни недодранные Лялькины старые, уже не нужные ей учебниковые книжки с первого по седьмой класс.
Не без грусти я взял букварь, стал потихоньку листать.
– Ты чего тормознул там? – выглянул Митрофан из кухни. – Давай-ка, как говорит Людка, рулюй сюда!
Когда я вошёл на кухню, Митрофан стоял уже перед наотмашку распахнутым холодильником на коленях, выискивал что-то глазами.
– Ты что, солярку[158] в холодильнике держишь? Не простудится?
– У меня, Бог миловал, ещё ни одна не простудилась. Даже не кашлянула.
Он засмеялся.
В глазах у него затолклись больные кровавые огоньки.
Я спросил, не болен ли он.
– Смотря что, – отвечал Митрофан, – понимать под болезнью. В твоём понимании, возможно, слегка и есть…
– Лечишься?
– В обязательном порядке! Бурого медведя[159] не держим. А… Сразу захорошеет, как хряпнешь гранёный вот этой магазинной микстуры. – Напоследок он выловил-таки в холодильнике поллитровку, устало-торжествующе перекрестил ею себя. – Наконец-то! А я уже было труханул, не пропало ли мое лекарствие…
Он так и сказал на старушечий лад: лекарствие.
Сковырнул с верха посудины белую бляшку, пошёл бухать в сдвинутые гранёные стаканы.
Отдёрнул я один стакан к краю стола, накрыл кулаком.
Митрофан, с сожалением глядя на пролитую по столу водку, что нитяной струйкой кралась к краю стола и чвиркала на пол, подивился:
– Полный неврубант! Не понимаю столичного юморка.
– Ты или первый день замужем? Ну когда-нибудь пил я эту отраву?
– Угощают. Чего ж не употребить этого чудила под такой закусон? – Вилкой он тенькнул по миске с вечорошними подгорелыми оладьями в сметане. – А я грешен, обожаю на дармовщинку. Я б чужое винцо и пил бы, и лил бы, и скупнуться попросил бы. И Глеб чужое не зевнёт. Вот только ты у нас не в долговскую масть. Не пью, не пью… Какой-то недоструганный Буратино! Не пьёт только тот, кому не наливают или кому не нальёшь. Например, колу в плетне. Извини! Это у Глеба ты вместе с моими Лялькой да Людкой чокался с нами шипучкой. Там тебе это сходило. Там ты был у матери. Дома. А тут ты в гостях. А гость невольник. Что велят, то и делай. Не обижай хозяина.
– Чем это я тебя обидел?
– А хотя бы тем, что не хочешь за моим столом даже пустить в жилку со мной!
– Налей газировки, молока… С удовольствием! Но почему обязательно этой подвздошной? Этого самосвала?[160] Почему?
– Кочерыжкой по кочану! Ты в паспорт к себе заглядывал? Кто ты по национальности? Знаешь?
– Вообще-то догадываюсь.
– Так будь же русским не только по паспорту. По ду-ху, якорь тебя! Убирай кулак. Капну с верхом!
– Как же, мечтаю! Ты вот укоряешь, чего это летом, за весь отпуск, я только раз приходил к тебе с Валентинкой. Потому и приходил только раз… Ну да как же к тебе идти, если знаешь, что у тебя не отбояришься от бухенвальда?[161] Ну почему ты считаешь, что в гости единственно за тем и ходят, чтоб насвистаться пьянее вина?
– Фа! Фа! Ален Делон не пьёт одеколон! Да не на лекции ли я «Алкоголь – друг здоровья»? Дёрни меня за ухо и скажи нет.
– Тебе твоё ухо ближе. Дёргай сам. У нас самообслуга. И попробуй быть за столом русским и без водки.
– Ёки-макарёки!.. Прямо вермуторно…Врачи… эти помощнички смерти… зудят: не пей! Ты туда же… Да как же не… Брательник! Да что ж это за встреча без вина? Какой тост скажешь под компот? А, между прочим, пить без тоста – пьянка, а с тостом – культурное мероприятие! Улавливаешь разницу? Живи проще… Съел рюмашку, взлез на Машку… Не срывай мне мероприятие. Не то припаяю штрафной гранёный! Давай… Айда докапаю с горкой. И притопчу!
Я не дал.
– Ну, оприходуй. Уговори хоть то на донышке, что налил. Бери, сполосни зубы. Нельзя ей долго стоять, выдыхается. Разбегаются витамины.
Митрофан поднял вывершенный стакан.
Дрогнула рука; ядрёная капля, уменьшаясь, покатилась наискосок по грани.
В панике Митрофан снял пальцем ту каплю и на язык. Пробно пожевал, кивнул. Годится!
– Ну! Вздрогнем, а то продрогнем! Дай Бог не последнюю!
Выдохнул, как-то махом выплеснул хлебную слезу в рот, сосредоточенно пожевал и проглотил одним глотком, поводя головой из стороны в сторону, как гусь, когда проглатывал невозможно большой кусок.
С пристуком он поставил стакан на стол.
Морщась, вынюхивает пустую щепотку:
– Ну, не тяни резину. Порвёшь! А то у нас в стране и так плохо с резиной.
Я всё же пригубил.
Но выпить у меня не хватало духу.
Пригубить и тут же поставить назад, не оприходовав ни капли, по обычаю, дурной жест, вроде неловко. Наверняка обидишь и без того обидчивого братца.
Однако пить я не мог.
Это было против моей природы.
Я не выносил сивушного духа.
Потерянный, я сидел не дыша с прижатым к губам стаканом. Не дышать я мог ровно минуту.
Поначалу Митрофан смотрел на меня с весёлым, победно-довольным выражением на лице. Уважил-таки, пошёл-таки гору на лыки драть!
Но время шло.
Стакан не пустел.
Весёлость на его лице задернуло смятение.
Через несколько мгновений смятение потонуло в злобе.
Митрофан демонстративно отвернулся от меня – глаза не глядят на это издевательство! – и какое-то время уже в крайнем гневе пялится на красный газовый баллон. Потом, резко обернувшись, отрывисто кинул:
– Ты не уснул?
Я отрицательно покачал головой и, в судороге хватив ртом воздуха, поставил стакан на стол.
– Не могу…
– Тыря-пупыря! Недоперемудрил! Кому ты сахаришь мозги? Брезгуешь? С родным братуханом не хочешь… Так и скажи. Не циркачничай только! Вот смотрю… Бесплатный цирк. Давно подступался спросить, какой фалалей пропустил тебя в столичную прессу? Да ну какой из тебя рыцарь словесного пилотажа? Пи-ить не можешь! А в наш деловой век это приравнивается к тягчайшему пре-ступ-ле-ни-ю, якорь тебя! О!
Он обрадовался ненароком подвернувшейся крепкой мысли, в радости вскинул руку, щёлкнул пальцами:
– Его ж, винишко вермутишко, и монаси приемлют! А сунь нос в любую книженцию, подреми в клубе на картине – на днях смотрел одну, как на партсобрании побыл – везде приемлют, везде зашибают дрозда, везде поливают, что на каменку. А у тебя своя линия? Да будь моя воля, я б тебя к журналистике и на ракетный выстрел не подпустил. По профнепригодности!
– Скажите, какие строгости…
– А ты думал! Вот, допустим, явился ты в университет поступать. Документики там всякие с печатями подсовываешь… Ради ж университета готов на всё. Даже на экзамены! А я – вот тебе первый экзамен, самый главный, самый профилирующий! – хлобысь тебе гранёный. Выутюжишь весь, не скривишься – вне конкурса зачисляю! Ты зубы не показывай… В вашем деле наипервое – умей быстро найти с человеком общий язык. По практике знаю… Залетали ко мне в колхоз разные там районные-областные субчики-бульончики. Иной охохонюшка не успел поздороваться, уже глазищами так и рыщет, так и рвёт, без пузырька не слезет с живого. А ты? Как же ты по трезвой лавочке доискиваешься ладу с людьми? М-му-ука! А ты, – заговорил он с шёлком в голосе, – переламывай себя. Учись у жизни… Употреби с человеком лампадку, он тебе не на статью – на роман наскажет!
157
Самолётом – быстро, сейчас же.
158
Солярка – плохая водка.
159
Бурый медведь – коктейль из коньяка с шампанским.
160
Самосвал – сильно действующий алкогольный напиток.
161
Бухенвальд – пьянка.