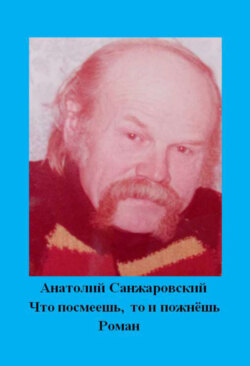Читать книгу Что посмеешь, то и пожнёшь - Анатолий Санжаровский - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава пятая
1
ОглавлениеГлеб стоял в сенцах у мартена,[167] у газовой плиты, бросал в кастрюлю нарезанную палочками картошку. Я тоже был при важном деле, держал горячую крышку.
У дальнего угла дома зачавкали нарастающие звуки шагов.
Редкие тяжёлые шаги стали перемешиваться с лёгкими, быстрыми, весёлыми.
– Начальник со своей дружной семейкой надвигается! – сказал Глеб.
– Откуда ты знаешь?
– Этот пузогрей за версту выпивон чует. Иначе и не был бы Начальник.
Глеб улыбнулся мне – а что я говорил! – увидав в дверях Митрофана с баяном на плече.
– Ну что, братцы-нанайцы, гостей принимаете? – Митрофан подал руку Глебу, потом мне. – Приёмный сегодня у вас день?
– Приёмный, приёмный, Никитч! – одновременно и озорно, и недовольно, и нетерпеливо открикнула Митрофану из-за его спины Лялька. – Всё прикольненько!
Насколько я помнил, при мне она почему-то всегда звала отца по отчеству, которое всё ещё путём не выговаривала, или, пожалуй, и это ближе к вероятности, нарочито ломала. Выходило как-то фыркающе, звучно.
– Никитч, ну ты совсем обнаглел. Не пройти!
Вжала, будто кусочек картины, верх лица в малое пространство между косяком и плечом Митрофана, без церемоний подтолкнула его вперёд, втеснилась в сенцы.
Держалась Лялька вызывающе смело, дерзко. Наверное, уже сознавала свою приманчивость, понимала, что красота сполна оплатит все её детски радостные счета, отчего уже во всяком пустяке выбегала на всеобщее внимание, на первую роль.
Со смятенным чувством смотрел я на юную красавицу и не знал, как повести себя: то ли выговорить ей за грубость к отцу, кстати, принявшего её толчки как должное, то ли, сделав вид, что ничего худого не нахожу в её поведении, обнять на правах родного дяди да поцеловать, как целуют занятного ребёнка.
Замешательство проступило и на её лице.
Неожиданно дрогнули смешинки-ямочки на бледно-розовых щеках, и она, блеснув безотчётно ласковой улыбкой и не без чопорности присев, кокетливо-чинно протянула руку, слегка наклонила головку с гладко зачёсанными за уши русыми волосами.
– Здравствуйте, дядя!
Я взял руку, ладную, нежную, согретую молодой кровью, и – поцеловал.
Никогда не целовал я руки женщинам. Какая же сила поднесла мне к губам руку этой девочки? И почему?
Восторженная, не двигая вскинутой рукой, она подвигала-погрозила одним лишь указательным пальчиком:
– Ох вы и шалунишка, дядя! – и впорхнула в комнату.
Глеб, оглядывая Митрофана, насторожённо справился:
– А ты что, меньшенькую не взял? Где она?
– Да где-т плыла… – Митрофан в ленивом изумленье опустил взгляд себе под ноги, пошарил глазами по сенцам. Поворотил голову, гаркнул в темноту: – Людашка! Ты где там застряла?!
Тоненький виноватый голосок коротко, срезанно хохотнул снизу, от порожка:
– И совсемуще я не застряла…
– Где ты тут поёшь? – Повёл рукой позади себя, наискал ощупкой ручонку, что вцепилась ему в низ плаща. – Иди, иди поздоровайся с дядей. Да не бойся! Вот ещё швындя!
Став боком в дверях, Митрофан поталкивал девочку ко мне на свет.
Пыхтя, она упрямо держалась одной ручонкой за плащ, другой за железку-перекладинку на колышках, о которую счищали с обуви. Меж пальцев чёрно бугрилась грязь.
Тогда я сказал, что привёз ей подарок.
Девочка выстрожилась, оценивающе окинула меня с головы до ног, как бы выверяя, а можно ли тебе, дядя, верить, уточнила, приставив худенький пальчик себе к груди:
– Мне?
Я кивнул.
– А что? – с вызовом спросила, поправляя вытертую косынку, козырьком падала на правый глаз. – Что?
Перед гардеробным узким зеркалом я надел ей белую пуховую шапку с кисточкой и охнул: шапка была невероятной огромности. Из-под неё едва виднелся нос.
– Шапка очень-очень хорошая! – радостью налилась девчонишка.
– Где ж оч-оч? Как кошёлка. Чересчур большая!
– Не большая. А как раз хорошая! – Девчушка благодарно уткнулась холодным носом мне в щёку (я сидел на корточках). – Теперша никто не увидит, – доверительно зашептала она, – мой похой глазик…
– Маленькая, откуда ты взяла? – так же шёпотом заговорил и я. – Нету у тебя никакого плохого глазика.
– Есть, родненький, есть… Если б не было… Знаешь, я тебе расскажу. Давно ещё, давно мамка с папкой повезли меня в чужой город к чужому дяде в халате. Посмотрел чужой дядя на мой похой глазик, сказал: «Носи, девочка, очки. В очках ты будешь самая красивая». Пришла я в очках в класс. А Мишка Воронов, Витька Буранкин, Шурка Сдвижков бегают за мной целой кучкой и дражнятся: слепендя! слепендя!! слепендя!!! Родненький, какая ж я слепендя? Я вижу всё, всё, всё! Разбила я очки камнем… Не хочу в класс… Ни с кем я там не дружусь… Сижу в углу, жалею похой свой глазик, разговариваю с ним. А он всё равно обижается и смотрит всегда в сторону, как у мамки…
– Откуда ты знаешь, что он смотрит в сторону?
– Я подглядываю! – с таинственностью и страхом выпалила мне в самое ухо и, прикрыв ладошкой именно больной глаз, наверное, чтоб не видел, не знал, показала из накладного кармана истёртой синей курточки – ещё когда я брал Ляльке в подарок! – лишь верх кругленького, с овсяное печеньице, зеркальца и тут же снова осторожно спрятала.
– А за что ему на тебя обижаться?
– Мамка с папкой не очень мне покупают. Дорываю я всё с Ляльки. Может, надоела я ему всегда в старом? Правда, глазик? – Ноготок её пальца лёг в гардеробном зеркале рядом с задёрнутым мутной плёнкой глазом. – Правда?
Не отворачиваясь от зеркала, потерянно добавила:
– Он и не хочет на меня смотреть… Я смотрю на него, а он смотрит совсем на дверь… Отворачивается… Не хочешь, ну и не смотри на Лялькину куртку-тарахтушку. Но, – плотней надёрнула шапку, покорно позвала из шапки: – Глазик, глазик! Посмотри, какая у меня шапка… Но-о-овая, краси-ивая… – Светло, ликующе повела подушечки пальчиков по верху шапки. – Из самой из Москвы! Ну посмотри!
Отлетела в сторону шторная половинка на дверном проёме, что вёл из прихожей в жилую комнату, вкатилась Лялька в своих тесных джинсах на заклёпках.
– О! Наша кудря уже прикольненько прифрантилась! – дурашливо плеснула руками, увидав на сестре шапку и потянулась было сорвать.
Но Лютик увернулась, забежала за меня.
В спешке завязала шапку под подбородком. Теперь не сдерёшь!
Лялька скривила губы.
– Эха, умнявная! Этот умоотвод, – Лялька потыкала пальцем в шапку с кисточкой на голове у Люды, – может вогнать в обалдемон только такую плюшку, как ты! И стоило этот малахай, куда хочешь помахай, везти из…
Входивший следом Митрофан беззлобно прицыкнул на неё:
– Ляль! Я не посмотрю, что ты вся в заклёпках и на целый палец выше батьки. Могу ведь по старой дружбине ремешком по сидячему бюсту пройтись. Ишь, мода какая. Дарёному коню в зубы лезть!
Лялька кудревато ответила, что ни к какому коню не собиралась в зубы лезть, и стегнула в мою сторону тяжёлым колючим взглядом.
Митрофан уставился на неё влюблённо-виноватыми глазами.
– Ну-у… Уже и обида поспела… Чего наворотила кисляк? Ну-ка, милая госпожа голая коленка… Лучше сконструируй улыбон шесть на девять! Негушка,[168] ты не обижайся. А лучше принимай вот эту бандуру, – чуть наклонясь, он передал ей баян, – да врежь нам «Светит месяц». Чтоб аж потемнело! Играй. И нечаянному маленькому сабантую музыка не помеха.
– Никитч, – поправляя ремни и поудобней усаживаясь, отходчиво проговорила Лялька, – а после сабантуя что, опять будешь по полу кататься со своим сердцем?
– Не с твоим же… Надо, братцы, нам нажраться!
С обречённым весельем хохотнув, Митрофан водрузил на край стола давеча ополовиненную у себя дома бутылку. Подумал – опустил за диван.
Вошёл Глеб.
Глеб достал из шкафа новую, с большими яркими розами, скатерть на стол. Расстилая, выпел попутно Митрофану:
– Чего глядишь именинником? У нас кто не работает, тот не пьёт. Давай, помогалыч, доставай, – взгляд под кровать, откуда из-под низко свисавшего простого одеяла виднелись низы банок с солёными огурцами и помидорами. – Режь хлеб, открывай девчатам шипучку. А я отбуду ещё на минутку, доведу до съедобных кондиций борщ. За вкус не поручусь, зато горячо будет!.. Значит, миряне, тайная вечеря такая: курятинка без борща, борщ с курятинкой и на десерт мужчинам блюдо под кодовым названием пять тридцать. Вся взрывчатка под столом.
– Есть единогласное мнение начать с десерта, – предложил Митрофан.
И он действительно начал с десерта, с пяти тридцати.
Столько стоила бутылка русской.
Почти с пупком набухал её в четыре узкие, высокие рюмки. Потом ещё в две грушовки налил.
Девчонки потянулись к воде.
Митрофан отвёл руку Ляльки от рюмки с выныривающими пузырьками.
– Ё-кэ-лэ-мэ-нэйка! Ты чего не играешь? Забыла? Наш пай – музыкальное оформление, якорь тебя!
Лялька замялась, капризно выгнула тонкую шею вбок.
– Воображулю колдун закрутил, – тихонько шепнула про неё мне Люда.
Лялька услышала и грозливо кинула сестре:
– Рот-то закрой! А то кишки простудишь! Сделай фокус – испарись!
Что-то засерчала наша Ляля прекрасная.
А может, наша розетка ждёт, когда ей позолотят ручку?
Летом её подружке Светке достали белую водолазку. Загорелась Лялька: и мне! и мне! Прямо вот она мне, конечно, не говорила, а всё стороной, всё поблиз, всё с намёком, с подходцем, мол, в Верхней Гнилуше этот номер дохлый, а вот там у вас если…
Человек я все же несколько догадливый и про себя решил, что в следующий приезд явлюсь с водолазкой этой.
Сразу по возвращении в Москву Валентина подбила на розыски свою подругу по работе Капу, эдакий ходячий комиссионный универмаг. Всё-то она знает, что где выбросят, вечно она кому-нибудь что-нибудь да меняет. С наценкой, разумеется, за усердие.
В надежде эффектно обрадовать протянул я Ляльке эту злосчастную водолазку.
Лялька поморщилась, будто у неё заболели зубы.
– Спасибо. Положите на сервант…
– Ты даже не хочешь взглянуть, что в свёртке?! – изумился я.
– А что смотреть? Всё равно не то, что мне надо.
– Белая водолазка, между прочим! Покуда достали – ведро крови потеряли.
167
Стоять у мартена – готовить пищу.
168
Негушка – любимая дочь.