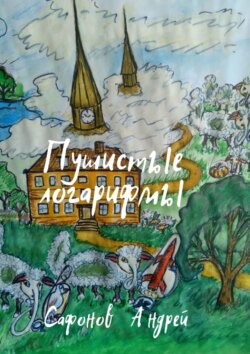Читать книгу Пушистые логарифмы - Андрей Анатольевич Сафонов - Страница 8
Я всматриваюсь в вас, о числа…
Владислав Степанович Малаховский: вещие сны о простых числах
ОглавлениеПрофессор Малаховский – для калининградского физмата фигура почти мифическая. Признанный в мире специалист по дифференциальной геометрии, знаток множества языков, человек, которого однажды в Британии посчитали советским шпионом, герой мистической передачи на канале «Культура» – он напоминает Джона Форбса Нэша из фильма «Игры разума». Малаховский умудряется вовлекать в математику, как в великое путешествие по миру идей. Высокая академическая планка сочетается у него с юношеским пылом и каким-то детским чутьем к чудесному.
Однажды, спустя много лет после окончания универа, поддавшись ностальгии, я сел на трамвай, докатил до математического корпуса БФУ имени Канта и взял следующее интервью:
Андрей Сафонов (далее – А. С.): – Владислав Степанович, сейчас математика является обязательным предметом, но, если быть честным, у многих школьников она вызывает настоящий ужас. Все эти синусы, логарифмы… Понятно, что они нужны физикам, инженерам… Но, может быть, есть смысл освободить гуманитариев от того, что является для них почти пыткой?
Владислав Малаховский (далее – В. М.): – Как говорили китайцы, «математика – кузница мышления», и я уверен, что, даже если человеку не нужно будет в дальнейшей жизни решать тригонометрические уравнения, изучение математики – это лучшая школа мышления. После нее будет легко освоить все остальное.
А. С.: – Но говорят ведь, что люди делятся на естественников и гуманитариев и то, что легко для одного, другому просто не дано.
В. М.: – Я думаю, данное деление весьма условно. Есть одно мышление, которое можно применять к разным вещам. Я отчетливо вспоминаю, как меня, шестиклассника, привели в старшие классы, и я без единой описки записал все формулы сокращенного умножения. И это произвело на старшеклассников неизгладимое впечатление. И примечательно, что меня никто никогда не обижал в школе – уважали за знание математики.
Память меня выручила и во времена оккупации. Однажды в дом, где мы жили, зашли три немецких солдата, положили на стол оружие и ушли, сказали, что скоро за ним вернутся. А следом за ними зашел немецкий офицер и начал кричать: Warum hier liegt die Waffe? («Почему здесь оружие?») И вот, если бы я, будучи маленьким мальчиком, не рассказал ему бегло на немецком про солдат, нам пришлось бы худо. Тогда я пообещал себе, что если мы выживем, я буду изучать языки.
В 7-м классе я подумал, а раз так хорошо пошло – дай-ка я все кубы натуральных чисел до ста выучу, потом я стал учить логарифмы. Потом внутренний голос сказал: «Цифрами ты можешь погубить себя. Тренируйся на языках». В 9-м классе я решил изучать английский. Учителя по предмету не было, но это меня не остановило. Я попросил маму купить все учебники с 5-го по 11-й класс. У меня была еще адаптированная версия романа Вальтера Скотта «Айвенго», и я переписал ее от руки. А потом написал письмо директору о том, что хочу сдавать английский. На экзамене я не сказал ни слова на русском, и мне потом сказали, что школьницы отличницы стесняются после меня отвечать.
В университете занялся французским. Нам читали лекции по аналитической геометрии на русском, а мы с товарищем записывали их на французском. Потом я занялся итальянским…
Знание языков помогло в научных командировках за границу. Хотя Англии меня чуть не приняли за советского шпиона и проверяли на предмет алкоголя, азартных игр, женщин и т. п. Но меня ничего из этого не интересовало. В итоге меня спросили: «Профессор, неужели вам не скучно так жить?» Мне было не скучно.
А по поводу математики – помню, на первом курсе с нами учился один вундеркинд, который сидел на задней парте и даже не записывал ни одной лекции. К зимней сессии он бросил нам вызов: сказал, что сдаст все экзамены досрочно, за три дня. И мы договорились с товарищем проучить зазнайку. И вот мы втроем подаем заявления, что будем сдавать экзамены досрочно. Преподаватели были в шоке и хотели поставить нас на место. В итоге они гоняли нас по всем учебникам, по всем тонкостям, каждый отвечал около часа, но все получили пятерки. Потом, много лет спустя, я встретил нашего «вундеркинда» на одной научной конференции, я к тому времени был уже профессором и думал, до каких же высот мог он дойти за это время. Оказалось, что он стал скромным доцентом в университете местного значения. Это хороший пример того, что даже гениальные способности без дисциплины могут дать меньше, чем обычный талант плюс трудолюбие.
А. С.: – Вы являетесь признанным во всем мире специалистом по дифференциальной геометрии. Но более широкому читателю вы известны своими книгами о натуральных и простых числах. Для вас, знакомого со сложнейшими многомерными математическими структурами, что там может быть интересного?
В. М.: – Как-то раз ложусь спать и вижу сон: какой-то голос говорит мне: «Займись простыми числами». Я подумал, какой вздор – ведь в этой области уже все давно открыто. Но мне снова и снова снился этот сон. И я все-таки решил ими заняться. В результате мне удалось сделать удивительные открытия. Мне удалось найти ряд многочленов, которые задавали отдельные группы простых чисел.
А. С.: – То есть вы обнаружили не общую закономерность, а как бы отдельные структурированные островки?
В. М.: – Да. До сих пор закономерности обнаруживали только в распределении простых чисел. А мне удалось найти некоторые закономерности внутри самого ряда простых чисел.
А. С.: – Математик Пуанкаре говорил: «Неужели все многообразие математики сводится к простой логической тавтологии А = А?» Но то, что вы говорите, наводит на мысли, что существует некая объективная математическая реальность со своими законами, независящая от нашего физического мира. Кажется, подобные взгляды называются математическим платонизмом. Согласны ли вы с такой концепцией?
В. М.: – Да. Я вообще считаю, что числа свидетельствуют о той гармонии, которую вложил в наш мир Создатель.
А. С.: – Но многие считают, что наука и вера несовместимы. Вы не разделяете таких взглядов?
В. М.: – Конечно, нет! Почти все великие математики были глубоко верующими людьми. Кеплер, Декарт, Паскаль, Лейбниц, Гаусс… Мне нравится высказывание святителя Игнатия Брянчанинова: «Мечтатели сделались безбожниками, а изучившие глубоко математику всегда признавали не только Бога, но и христианство»
.
А. С.: – Вам лично вера помогала в жизни?
В. М.: – Конечно. Очень часто судьба спасала меня от неприятностей и смерти. В конце концов я стал верить в Бога. Все жизненные сложности помогала преодолеть внутренняя вера: если я поступаю правильно, мне всегда помогут. Всевышний всегда поможет – вот мое кредо.
А. С.: – Вообще, это странно для человека вашего поколения, воспитанного в атмосфере атеизма.
В. М.: – Я абсолютно верил в советские идеалы. Считал, что они требуют добросовестности, порядочности и стремления быть первым. Я никогда не мог подумать, что верхушка партии состоит из предателей и мерзавцев, и меня постигло большое разочарование, когда я это понял.
А. С.: – С какими основными проблемами, на ваш взгляд, столкнутся наука и образование в XXI веке?
В. М.: – На мой взгляд, главные опасности – это повсеместная компьютеризация и пренебрежение чистой математикой. Человеческое мышление постепенно пытаются подменить машинным. Одного французского школьника спросили: сколько будет 2+3? Он ответил: «По закону коммутативности это будет столько же, сколько 3+2», после чего достал калькулятор. Сегодня технологиями пытаются подменить мозг человека, а это неправильно, поскольку мозг больше компьютера и мы все еще убедимся в необходимости чистой математики – фундамента для всех наук.