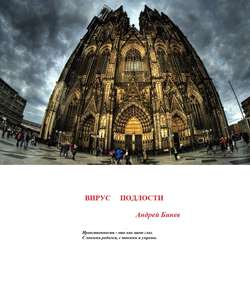Читать книгу Вирус подлости - Андрей Бинев - Страница 5
Часть первая
Пойми меня правильно
Физики и лирики
ОглавлениеАндрея Евгеньевича на полгода срочно отозвали в Москву. Он опять начал ездить в краткосрочные командировки по городам и весям, а после «добычи» в Тольятти, прямо на заводе, двух автомобилей «Лада» (тоже «выставочных образцов» – для двух влиятельных начальников важных департаментов министерства иностранных дел) опять получил назначение в длительную зарубежную командировку. На этот раз в Бонн. Он должен присутствовал там в трех лицах: первым секретарем советского посольства, пресс-атташе (по совместительству – за небольшую доплату) и корреспондентом одного крупнейшего информационного агентства по Германии.
Но кроме того досадного эпизода в Вене, связанного с серией «разоблачительных» антикапиталистических публикаций, за Саранским числилось еще кое-что неприятное. Возможно даже именно это и стало истинной причиной его срочного отзыва из Вены. Действующим лицом той тайной драмы был Вадим Алексеевич Постышев, венский корреспондент телеграфного агентства. Собственно, агентство не имело ни малейшего отношения к понятию «телеграф» в общедоступном смысле, так как оно само по себе представляло гигантский узел связи, в котором использовались все известные и неизвестные принципы передачи информации.
В нашем, казалось бы, логичном мире, в котором два измерения, время и пространство, формируют жизненный объем, то есть третье измерение, всё в действительности оказывается столь запутанным, столь многослойным, что поневоле усомнишься в здравомыслии тех убежденных материалистов, которые отрицают какие-либо невидимые и неподдающиеся объяснениям иные измерения. Именно в такой запутанный философский клубок и угодил Саранский.
Но к этому нельзя подходить прямо, а, напротив, следует идти осторожно, чтобы избежать поверхностного суждения как о самом Андрее Евгеньевиче, так и о времени и пространстве, в которых он был вынужден барахтаться.
Андрей Евгеньевич был человеком далеко не примитивным, и уж, конечно, не «солдафоном от пера», как его хотели представить некоторые ревнивые коллеги по журналистскому цеху.
Саранский искренне увлекался хорошей музыкой, был сентиментальным почитателем Моцарта, Баха, Бетховена, Вагнера, Штрауса (как младшего, так и старшего), и даже различал не только двух Иоганнов, то есть отца и сына, но знал и их не столь известного современника и однофамильца Рихарда Штрауса. Однако эти свои знания он умел использовать не только в возвышенных целях, но и совершенно прагматично. Судите сами.
Однажды на узком посольском приеме Андрей Евгеньевич необыкновенно удивил приезжего из Москвы сановного дипломата, рассуждая о несправедливости судьбы по отношению к однофамильцам: одних забывают в угоду другим. Всё началось с разговора о семье Дюма.
– Да кто ж нынче безошибочно различает отца с сыном! – сетовал образованный карьерный дипломат из центрального аппарата, – Один из них – авантюрного нрава, а второй, несомненно, философ. Авантюриста, иной раз, читать интереснее, а философа – все же куда полезнее!
Саранский авторитетно покачал головой и встрял неожиданно:
– Полностью с вами согласен. Еще печальнее дело обстоит в музыке. Да вот поглядите…
Он неожиданно точно, на одних «пум-пум» и «ля-ля», воссоздал штраусовский (известный «сыновний», венский) вальс. Потом, спустя несколько секунд, пользуясь теми же звуковыми возможностями горла, щек и губ, пропел «отцовский» вальс.
Вокруг небольшой группы мужчин, неожиданно увлекшихся духовным, а не политическим или рутинно-бытовым, разговором, собрались слушатели.
– Кто же нынче сможет различить этих двух людей! – печально говорил Саранский, – Да, они родня…, отец и сын, как известно. Оба прославились своими вальсами, легкими, просто, я бы сказал, воздушными музыкальными произведениями, но они же были и противниками! Иоганн-сын стал композитором, дирижером вопреки желанию отца! Месть, так сказать, за невнимание к многодетной семье! В нашем же сознании их сочинения переплелись, перепутались, а ведь вы только что слышали, товарищи, как я…, в меру своих скромных способностей, изобразил, так сказать, на губах произведения двух разных людей, а не одного, понимаешь, Иоганна. Два было Иоганна! Два!
В доказательство этакой несправедливости Саранский поднял над головой пальцы в форме латинского «V», каким обычно фанаты «тяжелого металла» демонстрируют свое «стальное» превосходство над классическим музыкальным миром. Но Саранский, конечно же, имел в виду совсем иное.
Сановный дипломат с уважением оглядел худенькую фигурку пресс-атташе Саранского и подумал, что несправедливостей много не только в мире музыкальных и эпистолярных искусств и жанров, но и в их, дипломатическом пространстве: вот ведь какая умница, какая легкость выражения, какое обаяние, а всего лишь пресс-атташе! Вряд ли теперь уже что-нибудь изменится! Вряд ли подрастет этот человек. Не дадут завистники, посредственности!
Андрей Евгеньевич, краем глаза отметивший приятное для себя смущение московского гостя, немедленно продолжил:
– Ну, это еще, как говорится, полбеды! Тут папаше с сыном самим бы было вовремя разобраться…, это, так сказать, на их совести! А вот как быть с однофамильцем Штраусов – с Рихардом. Талантливейшая была личность! Помер, между прочим, ровно через сто лет после старшего Иоганна. Но и с сыном-Штраусом одновременно пожил, потворил…, так сказать! Вот, послушайте, товарищи…
Андрей Евгеньевич откашлялся, словно тенор перед оперной партией, отставил назад правую ногу, задрал кверху голову и по-соловьиному, громко закурлыкал нечто очень и очень знакомое. Толпа вокруг московского дипломата и местного пресс-атташе распухла.
Саранский остановился, вновь покашлял для порядка, вроде бы, как от смущения, и вдруг захихикал:
– Что? Знакомо? То-то же!
Все заулыбались, потому что уже давно увлеченно смотрели единственное в то время игровое шоу по советскому телевидению (а те, кто был постоянно заграницей и не имел возможности видеть его, переживал по сему поводу) под названием «Что? Где? Когда?», и конечно же узнали начальные сигналы передачи.
– «Так сказал Заратустра»! – поднял на этот раз лишь один, указательный, палец кверху Саранский и оглядел всех победоносно. Так уж получалось, что он по причине своего малого роста делал это снизу вверх, но все же почему-то выходило, что сверху вниз, – Симфоническая, между прочим, поэма Рихарда Штрауса! Представляете, товарищи? А что сказать о его совместной работе со Стефаном Цвейгом над оперой «Молчаливая женщина»! А над «Саломеей», «Дон Жуаном»! Да, да! «Дон Жуаном»! Не только Моцарт, понимаешь! И другие могли! А «Тиль Уленшпигель»!
– Мда! – покачал головой сановный дипломат, и тут же вставил:
– Да ведь я ничего не имел в виду, когда вспомнил о Дюма! Вы совершенно напрасно так разволновались! Только ваш этот Рихард…, Штраус этот, очень был любим… самим Гитлером, и Геббельсом, и Герингом… Он ведь был ими назначен президентом нацистской имперской музыкальной академии. Простительно одно лишь…, что, говорят, покрывал евреев! Того же Цвейга, да и в родне у него были свои евреи…, невестка, что ли? Кроме всего прочего, он ведь не австрийцем был, этот Рихард Штраус. Мюнхенец, баварец, называвший свой родной край…, постойте…, дайте-ка припомнить, ах да! «Безотрадным пивным болотом»! Вот как! А разве ж вы об этом ничего не знали? Его-то уж, несмотря на совпадение в фамилиях ни с кем не перепутаешь! Но слух у вас отменный! Надо признать! Да я и не уловил сначала совпадения в звуках телевизионной передачи и его «Заратустры»! А вы молодец! Определенно молодец!
Андрей Евгеньевич густо покраснел, вежливо, без подобострастия, поклонился и, благодарно блестя глазами, демонстративно скромно отошел в сторону. Всё это он умел делать очень тонко.
Никто, кроме него самого и супруги Ларисы Алексеевны, не знал, как долго просидел накануне Андрей Евгеньевич над музыкальными справочниками, изучая историю фамилии (не семьи, а именно – фамилии) Штраусов. Он долго репетировал на память несколько фрагментов из произведений всех трех композиторов, доведя свои щеки и губы до боли. Андрей Евгеньевич только думал, как зацепиться за эту тему и выгодно продемонстрировать свою музыкальную культуру перед важным московским гостем. А тот сам подставился – заговорил про Дюма, отца и сына.
– …и святого духа, – как про себя потом заметил Саранский, – Жаль только, что я не дочитал про гитлеровские пристрастия, заснул, понимаешь, а то бы и тут не сплоховал. Да уж ладно! Всё получилось совсем неплохо!
Он слышал от старого приятеля, что у того сановного дипломата дочь училась в фортепьянном классе Московской консерватории и великолепно исполняла на малых пока еще сценах всех трех Штраусов. Этим страшно гордился отец и даже получил незлобивое прозвище в МИДе – «Штраус-самый старший».
Спасало Саранского тогда то, что Господь действительно наградил его абсолютным слухом, хотя и лишил голоса и творческой требовательности к своим способностям. Его амбиции распространялись совершенно на иное. Семь нот – было слишком узким полем для успеха. Слов в человеческой природе было куда больше!
Так что, Андрей Евгеньевич не был обычным карьеристом, в общепринятом, ведомственном понимании. Он относился к своему делу вдумчиво, и мог прибегнуть к примитивным формам, как, например, в случае с «Индустриальной жизнью Советского Урала» и австрийскими «акулами капитализма» лишь тогда, когда этого требовал потребитель, а именно – далекий, и в то же время, по его убеждению, «недалекий» советский газетный читатель. Да еще, и московское начальство. Оно, кстати сказать, в первую очередь требовало, как и в первую же очередь от этого отказывалось.
Таким образом, дальнейшее поведение Саранского и тот случай, который самым роковым образом вновь свел между собой Андрея Евгеньевича и Вадима Алексеевича Постышева, венского «телеграфного» корреспондента, не покажется теперь случайным. Тут как раз с самого начала всё было совершенно естественно, то есть, как уже упоминалось, время и пространство сформировали объем, …но вдруг абсолютно метафизически к этим трем известным измерениям прибавилось четвертое, работавшее во встречном направлении ко времени. И всё повернуло вспять!
Физики – это те же философы, но уделявшие в свое время математике больше времени, чем литературе. Они, конечно, со всей скрупулезностью сумели бы рассчитать вероятность появления на одной из узких, окраинных улочках Кёльня физического тела, принадлежащего невозвращенцу Постышеву, включению как раз в тот момент, когда он стоял на пешеходном переходе, зеленого сигнала светофора, и торможению перед ним автомобиля Саранского. Наверное, можно было бы всё это понимать и как измерения вектора направления автомобиля Саранского и силы удара, с которым нанес бампер по лодыжке Постышева, и, главное, то, что это была именно его лодыжка, а не какого-нибудь Ганса, Фрица, Юргена, Макса…
Однако же одних лишь талантов физика здесь было бы недостаточно, именно потому, что физики больше верят математике, чем литературе. А ведь именно литература приводила немало убедительных примеров того, как случайность, совершенно неподдающаяся точному расчету, переворачивала всё с ног на голову и изменяла течение вещей до их зеркальной противоположности.