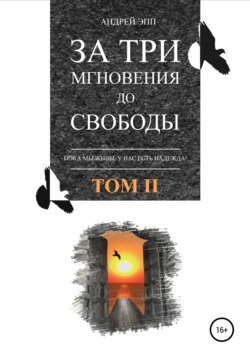Читать книгу За три мгновения до свободы. Том 2 - Андрей Эпп - Страница 4
Глава 33. Кофе с коньяком.
ОглавлениеБлойд шагал по тюремному коридору, закинув цепь за спину. За долгие дни, проведенные в крепости, он практически сросся с ней, привык к ней так, словно она стала неотъемлемой частью его собственного тела. Он перестал ощущать ее тяжесть. Запястья, первое время кровоточившие и воспалявшиеся от постоянного трения грубого металла, уже не причиняли былых страданий. Кожа покрылась грубой нечувствительной коркой, напоминавшей своей рубцеватостью и немного бурым оттенком чешуйчатую шкуру дракона. Блойд научился обращаться с цепями так, что они практически не причиняли ему неудобств. По крайней мере те, что на руках. Короткие ножные оковы все же мешали делать обычные полноразмерные шаги, превращая его походку в старческое шарканье. В тесной камере он этого как-то даже не замечал. Здесь же, в длинном коридоре, Блойд снова сполна ощутил этот недостаток, и это раздражало.
Другое дело длинные и тяжелые цепи на руках. Их тяжесть, поначалу причинявшая массу неудобств, со временем даже пошла на пользу. Блойд разработал целый комплекс упражнений, превращающий немалый вес цепи в дополнительную нагрузку для тренировки мышц.
Однажды, взглянув на себя со стороны, Блойд не без разочарования увидел исхудавшего и ослабшего из-за крайней ограниченности движений узника. Его заточенное в тесный каменный мешок тело бездействовало. В прошлом остались длительные пешие переходы, изнурительные многочасовые поездки верхом, требующая нечеловеческого напряжения каждой жилки борьба с морской стихией во время жестоких бурь и штормов. Все это ушло. Теперь его телу не нужно было столько сил и энергии, чтобы сидеть-лежать-стоять в маленькой камере. Более того, избыток сил и энергии ему только вредил, делал пребывание в темнице еще более невыносимым. Если чего-то много, оно должно как-то проявляться, реализовываться, изливаться вовне. В условиях заточения излишку физических сил не во что было изливаться, и это усугубляло душевные страдания.
Это как с детьми. Есть дети от природы активные и живые. В них словно бьет неиссякаемый фонтан энергии. Они всенепременно должны носиться, сломя голову, по всей округе, залезть на каждое дерево, изучить каждую крышу, каждый потайной уголок в окрестности, они находятся везде и всюду, сразу и одновременно. Они должны все знать, во всем участвовать, со всеми передраться, с каждым затем помириться и снова поссориться, чтобы потом опять подружиться для новой совместной авантюры. Нет для родителей таких детей большего испытания, чем ненастные дни, когда их чадо вынуждено весь день провести в домашнем заточении. Такой мальчишка весь изведется, не зная, куда себя деть. Он будет ныть и стенать, будет цепляться ко всем и к каждому, он обязательно что-нибудь разобьет, сломает или подожжет. Никогда заранее не знаешь, что придумает этот отпрыск, чтобы выплеснуть всю энергию, которую обычно поглощает улица. Но можно быть абсолютно уверенным, пока эта энергия не выплеснется, чадо не уснет. Если же случается так, что «домашний арест» затягивается на несколько дней, такой ребенок просто заболевает.
А есть совсем другие дети, для которых нет большей радости, чем тихое уединение за каким-то нехитрым занятием. Им не нужны ни улица, ни шумная ватага друзей. Их не манят приключения и опасности. Им чужды ветер странствий и пыль неизведанных дорог. Проливной ливень за окном для них не наказание, а прекрасная возможность посидеть дома. Но такие дети обычно более хилые, вялые и болезненные. Им не нужно столько энергии, и их тело приспосабливается к их вялому темпераменту и само становится таким же вялым и аморфным.
Так и Блойд. В Крепость он попал таким, как первый ребенок – деятельным, активным и подвижным. Но чтобы не сойти с ума, ему нужно было стать вторым – апатичным, вялым и безразличным. И организм потихоньку стал приспосабливаться к тем условиям, в которых он оказался. Ненужные ему органы начали незаметно отмирать, мышцы стали слабеть и дряхлеть, энергия иссякать.
Увидев себя таким, Блойд ужаснулся. Он понял, что сам понемногу убивает себя, лишая шансов на спасение. Если даже предположить, что все стоящие у него на пути препятствия исчезнут, если вдруг все удастся, грош всему этому цена, если он просто не сможет преодолеть вплавь расстояние, отделяющее его от спасительного корабля. А он не сможет. Для этого нужны сила и выносливость, которых в его ослабевших членах почти не осталось.
И Блойд заставил себя трудиться над своим телом. Каждый день он изнурял его упражнениями. И тяжесть оков послужила ему во благо. Он тренировал свои руки и плечи, всеми возможными способами поднимая и опуская цепи – то к груди, то к подбородку, то над головой, то одной рукой, то сразу двумя, то спереди, то сзади, за спиной. Он приседал и отжимался, закинув цепи на плечи, качал пресс, держа свои железяки за головой. И это начало приносить плоды. Тело его вновь обретало былую силу и пружинистость, мышцы крепли и становились упругими.
Да, Блойд научился жить со своими цепями, научился обращать их к своей пользе, научился не замечать их, когда это было необходимо. Он научился делать с ними все. Только одной вещи ему никогда с ними не научиться – плавать. А это значит, что от оков надо было избавиться. Избавиться любой ценой, во что бы то ни стало.
Снова и снова прокручивая в голове возможные варианты, Блойд неизменно мыслями возвращался к одному единственному человеку, способному освободить его от осточертевшего металла. Этим человеком был Бен Торн – комендант Крепости. Только его воля могла что-то изменить. Только он мог выдать Блойду билет на свободу. Он же мог и навсегда лишить его этого шанса.
Что может заставить Торна дать спасительный для Гута приказ снять с заключенного цепи? Блойд раз за разом задавал себе этот вопрос и раз за разом не находил достойных аргументов. «Это бесполезно, – в конце концов решил для себя Блойд, – я могу годами сидеть и выдумывать причины, которые заставят Торна снять с меня эти железяки, но так ничего и не придумать. А вдруг и выдумывать ничего не надо? Кто знает, может, он просто в тот раз был не в настроении или просто проверял меня, а теперь пойдет навстречу без всяких причин и условий? А может, он сам в этот раз озвучит условия? Вдруг алчность возьмет-таки верх? Или сострадание? Ведь, не исключено же такое? А может, в ходе разговора появится что-то такое, за что можно зацепиться? Да мало ли что может быть! Или вообще все это зря, и он попросту не захочет меня видеть? Все мои умозаключения тогда вообще яйца выеденного не стоят. Все! Хватит! Хватит терзаться и мучиться! Пора действовать!».
И вот он уже шел по коридору на встречу с комендантом. Великий и ужасный Бен Торн на удивление быстро и легко согласился принять заключенного номер восемьсот двадцать четыре. Стоило Гуту сказать выдававшему еду охраннику: «Мне надо видеть коменданта», – как на следующий же день за ним пришли.
Скорее всего, насчет восемьсот двадцать четвертого у охраны изначально были особые распоряжения, и обо всем происходящем незамедлительно доносилось Торну.
В столь быстром отклике на свою просьбу Блойд снова уловил благосклонную улыбку Фортуны, уже одарившей его встречей с Адальгардом, свиданием с Луи и радостной вестью о близости корабля с верным Морти на борту. Блойд искренне верил, что схватил удачу за хвост и теперь уже не выпустит, покуда не выберется из этой опостылевшей ему тюрьмы. Нет, даже позже – пока не вышибет Деспола Спотлера с императорского трона. Он не выпустит ее ни минутой ранее. А в том, что эта минута непременно настанет, Гут теперь не сомневался.
Памятуя обстоятельства их последней встречи, Торн на этот раз решил оградить себя от неприятных неожиданностей и послал за Блойдом сразу восемь конвоиров. Гута это несколько позабавило, поскольку «неприятные неожиданности» в его планы не входили. Охрана не разделяла с Блойдом веселого расположения духа. Каждый из солдат был хорошо осведомлен о произошедшем в прошлый раз инциденте и его последствиях, поэтому держались они настороже, сжимая потными ладошками снятые с предохранителей ружья. Ружья не понадобились, процессия благополучно и без происшествий добралась до кабинета коменданта.
Но как оказалось, усиленным конвоем меры предосторожности не ограничились. Первое, что сделали конвоиры, заведя заключенного в кабинет, – пристегнули тяжелым амбарным замком его цепи к массивному стальному кольцу, вмонтированному в стену. В прошлый раз кольца не было. Своим появлением оно было обязано ему, Блойду. Гута это еще больше развеселило. По его губам пробежала легкая усмешка.
– Да, Блойд, как видишь, у нас тут небольшие изменения с момента твоего последнего визита, – только сейчас Блойд заметил стоявшего в дальнем темном углу коменданта. – А что прикажешь делать? Сам виноват.
Торн сделал знак закончившим возиться с цепями солдатам, и те поспешно ретировались из кабинета. Оставшись вдвоем с заключенным, Бен продолжил:
– После твоей выходки мне приходится задумываться о мерах предосторожности. Кто знает, какая еще бредовая идея родится в твоей отчаянной голове?
– В ней больше не рождаются бредовые идеи, – ответил Блойд. – Карцер надолго излечил ее от этого.
– Надолго – не значит навсегда. У любого лекарства, если не принимать его регулярно, ослабевает эффект. А у тебя так вообще был лишь разовый прием. Поэтому, ты уж извини, тут одно из двух – либо охрана в кабинете все время, пока мы с тобой болтаем, либо вот как сейчас – цепью к стене. По мне лучше так, чем греть чужие уши.
– А по мне, так лучше вообще какой-нибудь третий вариант, чтобы и без конвоя, и без цепи.
– Да ты, я гляжу, – шутник. Не теряешь чувства юмора. Это хорошо. Хорошо, когда чувства юмора много. Хуже, правда, когда его оказывается больше, чем чувства меры. Тогда можно и дошутиться…
– О, я уверен, что карцер лечит избыточное чувство юмора ничуть не хуже, чем глупость.
– Это правда, – улыбнулся Торн. – Но, надеюсь, ты не держишь на меня зла за прошлую «лечебную процедуру».
– Нисколько! Я ее заслужил, Бен. Хотелось бы и мне надеяться, что и моя дерзкая выходка тоже прощена.
– Я не злюсь на тебя, Блойд. Это был отчаянный и смелый поступок. Настолько же отчаянный, насколько и безумный.
– Да. И моя глупость стоила мне нескольких ужасных дней в карцере и шрама на затылке от приклада.
– Твоя глупость стоила жизни солдату, который меня спас. Я его расстрелял.
– Как расстрелял? – не поверил услышанному Блойд.
– Пулями. Из ружья. А как еще можно расстрелять? Так что ты в следующий раз, как нащупаешь шрам на затылке, вспомни, что тот, кто его тебе сделал, давно кормит рыб на дне моря.
– Но почему? Что он сделал?
– Да ничего особо такого… Он был славным малым. Почти героем, можно так сказать. Просто один не очень умный заключенный приставил нож к горлу коменданта Крепости. А этому парню очень не повезло стать свидетелем позора своего командира. Очень не повезло. Ведь для коменданта стать заложником заключенного – это же позор, как думаешь? Так вот, Блойд, запомни, что у всякой глупости бывают последствия, иной раз непоправимые. И касаться они могут не только тебя самого, но и кого-то еще.
Блойд молчал. В груди невыносимо щемило. Он не знал того солдата. Он успел познакомиться только с прикладом его ружья. Но он ощущал себя виновным в его гибели. Не причастным, а именно виновным. И между этими двумя понятиями непреодолимая пропасть. Вина многотонным прессом обрушилась на его плечи, сжала грудь, не давая вдохнуть, мешая пропихнуть внутрь застрявший в горле комок. Рядом с Блойдом и вокруг него всегда было много смертей. Люди гибли в бою, в заточении, в походе. Гибли за него, иногда даже прикрывая его своим телом. Но всегда это был их осознанный выбор, они всегда знали, на что шли. Поэтому никогда раньше у Блойда не было такого острого и невыносимого чувства вины. Этот мальчишка… Он же просто выполнял свой долг, он спасал своего командира. И за это он умер. Умер только потому, что стал свидетелем его, Гута, безрассудства… Но Торн! Как мог он так поступить с человеком, возможно, спасшим ему жизнь? Блойд смотрел на Бена и силился понять, как в одном человеке одновременно уживаются две совершенно противоположные сущности? В нем, как в котле, кипела сборной солянкой и какая-то искренняя, щемящая тоска, и чувство долга, чувство офицерской чести, и неимоверная, почти бесовская маниакальная жестокость. Блойд смотрел на Торна и физически ощущал его внутренние, никому не ведомые страдания. Оставаясь внешне непоколебимым железным хозяином Крепости, внутри Бен весь кровоточил истерзанными душевными ранами. Каждая смерть, к которой он был причастен, убивала и частичку его самого, уничтожала его душу, ввергала ее в кромешную тьму. А между тем разорванные в лохмотья остатки его души, как и всякой души человеческой, тянулись к свету, к чему-то чистому и неиспачканному грязью предательства и кровью невинных жертв – к тому, чего здесь, в Крепости, почти не осталось, и воплощением чего, в некоторой степени, стал для Бена Блойд. Гут стал для Торна единственным человеком, рядом с которым он мог позволить себе хоть ненадолго быть настоящим и не бояться проявить мягкость или слабость. При других обстоятельствах Блойд мог бы стать его другом. Настоящим другом. Единственным другом. При других обстоятельствах.
А сейчас Бен тоже молчал. Он, как и Блойд, думал об этом парне, которому не повезло. И о себе, ведь ему самому не повезло еще больше. Тот парень умер, а ему самому со всем этим предстояло еще как-то жить. Каждый день жить с этим. И с этим же умирать. И предстать на Суд тоже с этим. С этим и еще с сотнями других смертей.
Бен молча достал из сейфа бутылку коньяка, молча откупорил ее, наполнил два бокала, один из которых он протянул Блойду. Они выпили. Тоже молча.
Терпкая обжигающая жидкость продавила, наконец, застрявший в горле комок и ослабила сжимавшие его тиски. Блойд смог заговорить.
– Зачем ты это сделал, Бен?
Торн не ответил. Он лишь плотнее сжал губы и громко выдохнул раздувшимися ноздрями.
– Почему, Бен? Ведь он спасал твою жизнь!
– Вот именно! – взорвался Торн. – Неужели ты не понимаешь? Если он спас меня, значит, я оказался в ситуации, из которой меня надо было спасать! Значит, я проявил слабость! Комендант Крепости не может проявлять слабости!
– Но почему?
– Да потому, что это Крепость! Крепость! Это чертов ад на земле! И если все здесь еще не полетело в тартарары, то только потому, что здесь есть комендант, в котором нет ни слабости, ни жалости, ни сострадания. Я здесь для всех все! Да, я жесток, я для них кара небесная, но я же для них и Бог, и отец, и мать родная. И если я перестану быть таким, все здесь рухнет в одночасье.
– И ты предпочел перестать быть человеком, чтобы остаться комендантом?
– Заткнись, Блойд! Или я пожалею, что разрешил тебя сюда привести.
– А я о том, что попросил тебя об этом.
Блойд и Бен обменялись тяжелыми взглядами. Блойд изучал осунувшееся и посеревшее лицо коменданта. «Он постарел с момента нашей последней встречи, – подумал Гут. – А ведь так немного времени прошло. Совсем немного, чтобы так постареть!». Мрачные и усталые глаза Торна еще больше провалились внутрь и оттого казались еще более мрачными и еще более усталыми. На лбу обозначились новые борозды морщин, а голову то тут, то там посеребрила предательская седина. Даже его исполинские плечи хоть никуда и не делись, но теперь как-то опали, словно под тяжестью невидимой ноши. Только усы все так же молодились и задорно задирались кверху, что делало их неуместными на фоне обмякшего и осунувшегося облика коменданта. Блойд заглянул в потерянные глаза Торна и ужаснулся открывшейся ему бездне невыносимого внутреннего страдания. Это может показаться странным, но измученному и изможденному узнику вдруг стало неимоверно жаль своего тюремщика.
– Как же тебе хреново, Бен, – с искренним состраданием произнес Блойд. – У тебя хоть получается спать?
Торн залпом опрокинул в себя остатки содержимого бокала и страдальчески взглянул на Гута.
– Когда выпью. Когда нажрусь, как грязная скотина, до беспамятства.
– И часто это бывает?
– Каждую ночь… Каждую сраную ночь, – Бен усмехнулся. – Должен же я хоть как-то засыпать.
– Ты убиваешь себя, Бен.
– Послушай, дружище. Я за свою жизнь убил столько мерзких ублюдков, что еще одним больше или меньше – уже совершенно без разницы… Хотя ты знаешь, – Бен снова ухмыльнулся, – возможно этот мир только скажет мне спасибо за то, что я избавлю его от себя… А, Блойд, как думаешь, скажет мне мир спасибо? Может, такая моя смерть станет единственным оправданием моей никчемной жизни?
– Не станет. Добровольная скотская смерть не оправдает скотской жизни.
– Да? А что тогда оправдает?
– Не знаю. Может, другая, не скотская жизнь?
–О, мне уже поздно начинать жить по-другому!
– Никогда не поздно. Пока мы живы, всегда есть надежда!
– Нет, Блойд, не всегда. Не в моем случае. Мне жить комендантом и умирать комендантом. Сраным комендантом сраной Крепости, а это значит – по-скотски.
– А разве комендант не может жить по-человечески и совершать человеческие поступки?
– Например?
– Не знаю. Поменьше убивать, получше относиться к несчастным узникам. Снять с меня эти чертовы цепи наконец.
Бен задумался, но уже через несколько мгновений совершенно изменился в лице. Его глаза превратились в два ледяных айсберга, взгляд стал непроницаемым и чужим.
– Так вот оно что! Вот зачем ты пожаловал! Решил хитростью взять?
– Я не понимаю тебя, Бен. Ты прав, я действительно хотел просить тебя снять с меня цепи. Но я и не скрывал своих намерений, в чем ты усмотрел хитрость?
– В чем? Ты держишь меня за идиота? Ты, как ночной воришка, пробрался в мою душу. Ты шарил там своими грязными руками, цинично и беспардонно копался в ней. И все для того, чтобы найти больное место, воспользоваться им в своих интересах? Я был с тобой откровенен, я открылся тебе. А сейчас снова ощущаю себя так, словно ты опять приставил нож к моей шее… Ты такая же мразь, как и я, Блойд. Ты ничуть не лучше меня самого. И мне жаль, что я был с тобой откровенен, я снова допустил промах.
– Постой, Бен. Ты не прав. То, что я шел к тебе, чтобы просить о снятии цепей, вовсе не означает того, что я не могу быть искренним с тобой. Я же вижу, как тебе плохо. Я чувствую, что тебе, быть может, тяжелее, чем мне, чем любому из узников Крепости. Я рад, что нам удалось откровенно поговорить. Ни у тебя, ни у меня давно не было такой возможности. А это необходимо. И я действительно хочу тебе помочь!
– Ты – мне? Черта с два! Ты хочешь, чтобы это я помог тебе.
– Да, хочу! Но как ты не поймешь, что, помогая мне, ты можешь помочь и себе! Попробуй сделать что-нибудь по-настоящему хорошее, человеческое, и возможно, это станет первым шагом на пути изменения твоей собственной жизни.
– Все это чушь и демагогия! Все эти разговоры про новую жизнь, про спасение души… Все чушь собачья. Эта тема закрыта.
– Жаль, что ты мне не веришь.
– Даже, если и верю. Это ничего не меняет. Ты пришел просить снять цепи? Мой ответ – цепи остаются.
– Но почему?
– Потому что так положено! Заключенные в Крепости должны пребывать в цепях. Таковы правила. И правила эти в отношении твоей персоны мне предписано соблюдать лично Императором. Вопросы или пожелания еще есть?
– Значит, ты все-таки предпочитаешь оставаться комендантом…
– Я предпочитаю исполнять свой долг. У тебя все?
Блойд встал. Надежды его не оправдались. Дальнейший разговор терял смысл.
– Жаль. А я почти почувствовал в тебе друга…
– Если у тебя все, Блойд…
– Еще одна просьба… Две просьбы. Можно мне забрать остатки коньяка? – указал Блойд на початую бутылку.
– Забирай. И вторая?
– Кофе. Мне чертовски не хватает кофе в этой тюрьме. Пожалуй, даже больше, чем женщин. Но женщин же просить бесполезно?
– Бесполезно.
– Тогда хотя бы кофе. Хотя бы раз в неделю. Одну чашку крепкого кофе с утра.
– Хорошо. Каждое утро у тебя будет чашка крепкого свежезаваренного кофе. Будем считать это моим первым человеческим поступком.
Очутившись снова в камере, Блойд уселся на пол, откупорил бутылку и сделал большой глоток. Коньяк был ему нужен, чтобы отогнать навязчивые мысли о постигшей его неудаче. Встреча прошла хуже некуда. Других вариантов освобождения от оков у него не было. Это был провал, о котором не хотелось думать, и коньяк был призван разогнать тяжелые мысли и ввести его мозг в состояние пустого и бессмысленного беспамятства.
Коньяк и кофе… Все, что ему удалось получить от сегодняшней встречи. Кофе и коньяк. Коньяк, конечно, штука хорошая, тем более что он почти отвык от его вкуса за время заключения. А кофе… Кофе Блойд не любил и не пил его вовсе. Но сейчас кофе – это хорошо, больше не надо дырявить собственную руку этой треклятой иглой.
После первой встречи Луи стал прилетать к Блойду раз в несколько дней, каждый раз принося известия от Морти. Но Морти тоже нуждался в новостях от Блойда. В первый раз Гут дал понять, что Луи отыскал своего хозяина, оставив от полученного сообщения лишь слово «прочитал». Но для полноценной связи этого было мало, нужно было найти возможность для ответных сообщений. Хотя бы кратких, хотя бы в два-три слова. И Блойд выпросил у Адальгарда иглу. Ту самую, которой тюремный лекарь зашивал покойницкие мешки. Адальгард… У Блойда снова зашевелилось что-то неприятное и нехорошее в груди, прямо за ребрами. Так уже было, когда он не сказал старику про Луи. Почему не сказал? Просто не сказал, и все! Неприятное снова зашевелилось. Тогда впервые после долгого времени Блойд пришел к Архиепископу в хорошем расположении духа. Руки его еще хранили тепло маленького пернатого тельца, и, вспоминая забавный голубиный хохолок, Блойд невольно улыбнулся. Улыбка эта не укрылась от внимательного и чуткого взгляда Архиепископа.
– Случилось что-то хорошее, Блойд? – спросил он тогда.
Блойд слегка заколебался, но тут же ответил:
– Нет, с чего ты взял?
Адальгард не заметил замешательства товарища. Или сделал вид, что не заметил.
– Просто я давно не видел улыбки на твоем лице.
– Да нет… Ничего не произошло. Просто я сегодня хорошо спал. Мне приснился приятный сон. Кстати, мне снилась Лесси с птичьими крыльями. Она была забавной.
Архиепископ улыбнулся. Лесси, услышав свое имя, зашуршала где-то в углу камеры, а у самого Блойда шевельнулось то самое неприятное и нехорошее в грудине. Тогда впервые зашевелилось.
Потом еще раз, когда через два дня Блойд попросил у Адальгарда иглу и не сказал, зачем.
– Зачем тебе игла без ниток?
– Да так, надо кое-что там… Надо в общем.
И снова зашевелилось. И теперь вот тоже.
Неужели теперь так будет каждый раз, когда он будет вспоминать об Архиепископе? Но с чего это вдруг? Ведь он же его друг, единственный здесь в заточении друг.
Игла пригодилась. Когда Луи снова прилетел, Блойд воспользовался ею, чтобы проколоть подушечку пальца на левой руке. Выдавив через ранку большую алую каплю, Блойд использовал собственную кровь вместо чернил. Игла послужила пером. На обратной стороне послания, полученного от Морти, Блойд нацарапал: «Рад, что ты рядом. Есть план. Мешают цепи. Пытаюсь решить. Жди».
После этого Луи прилетал несколько раз, каждый из которых добавлял по ранке на кончиках пальцев Гута. Адальгард их не замечал. Или снова делал вид, что не замечал. Опять Адальгард, и опять не по себе…
Ничего, теперь есть кофе. Крепкий кофе – это почти чернила, а Блойд просил именно крепкий. Теперь нет необходимости дырявить пальцы. Ранки быстро затянутся. И иглу можно отдать старику. Не нужно будет теперь гадать, заметил он или нет, не нужно выдумывать, зачем ему была нужна игла. Все, не нужна. Перо ему с легкостью заменит любая соломинка с его ложа. Соломинка, кофе и никакой иглы.
Блойд отхлебнул коньяк. Морти не может вечно торчать на якоре у Крепости. Рано или поздно ему надо будет вернуться в Золотую бухту. Запасы еды и пресной воды закончатся. С едой, положим, Морти еще как-то разберется. Он прирожденный рыбак, а рыба здесь действительно отменная. Торн, сволочь, кормит ее на славу. Но с пресной водой ничего не придумать. Сильных дождей ждать не приходится, не тот сезон. Остается только надеяться, что Морти позаботился о запасе. Надо будет в следующем письме обязательно спросить, сколько они еще протянут.
Еще глоток коньяка. Ну спрошу, а что толку? Что дальше? Что делать с цепями? ЧТО ДЕЛАТЬ, МАТЬ ЕГО, С ЦЕПЯМИ? Торн сволочь, сволочь, сволочь! Что ему стоило? Ведь я же видел, что он хотел, он уже почти был готов… Почти готов… Но он трус, он боится, что его сдадут Императору. Наверняка у Деспола есть тут свои тайные глаза и уши.
Еще два глотка. Скотина! Тупая трусливая скотина этот Торн! Из-за него мне придется гнить в этой вонючей камере. Опостылело все! ВСЕ! И стены эти, и солома, и цепи, и жизнь эта опостылела!
Последний долгий глоток осушил чрево бутылки. К чертям все! Все планы, надежды, все мечты к чертям! И тебя к чертям, никчемная склянка! Пустая бутылка с силой полетела в противоположную стену, а Блойд провалился в темную бездну беспамятства.
Утро не принесло облегчения. Хмель улетучился, но оставил после себя гудящую тяжесть в затылке и новое, ясное, уже не смягченное коньячными парами осознание провала. Реальность скованных железом рук не оставляла шансов мечтательным планам побега.
Блойд осмотрел камеру. Пол у стены напротив был сплошь усеян осколками вчерашней бутылки. Большие и маленькие острогранные стекляшки скудно преломляли и отражали хилые солнечные лучи, провалившиеся в камеру через узкое зарешеченное окно. «Точно, как моя жизнь, – подумал Блойд, – пустая, бессмысленная, разбитая вдребезги». Его взгляд остановился на странной формы осколке. Горлышко. Оно откололось от пузатого тела бутылки, прихватив с собой изрядную часть ее выпуклого бока, и напоминало теперь… Нож! Само горлышко служило его рукоятью, а боковина бутылки – лезвием, острым стеклянным лезвием.
Дрожащей рукой Блойд дотянулся до своей находки и поднес ее к глазам. Нож! Теперь у него есть нож! Пусть кривой и неуклюжий, пусть не из ширвудстоунской стали, а из обычного зеленого стекла. Но это все-таки нож, который справится с любой тканью и любой веревкой. Его бы только немного обточить, сгладить торчащие неровности, придать форму. Но это все пустяки. Для этого у него есть все его время и все камни всех стен его камеры. Главное, что он есть! Значит, Фортуна все еще у него в руках.
Некоторое время Блойд с восхищением рассматривал новый подарок судьбы. Пока не звякнули снова цепи. И этот звук бьющихся друг об друга стальных звеньев вызвал новую волну отчаяния, которая накрыла его с головой.
Ну и что с того, что у него теперь есть нож? Сталь им не перерезать. А значит все бесполезно. Господи, ну что я Тебе сделал? За что Ты меня так мучаешь? Или Тебе просто забавно за мной наблюдать? Тебе весело там, наверху? Что за изощренная жестокость – подбрасывать мне крупицы надежды и наблюдать, как я тешусь ими, словно глупый и наивный ребенок. А потом отбирать их снова и снова. Снова подбрасывать и снова отбирать! Что за утонченная дьявольская пытка! Тебе мало того, что я уже пережил? Что Тебе еще от меня нужно? Зачем Ты надо мною так издеваешься? Не проще сразу меня убить? Просто взять и убить? Не хочешь? Это для Тебя недостаточно забавно? Тебе скучно просто так убивать? Тебе нужно вымотать мою душу, изорвать ее в клочья до самого конца? Тебе нравится издеваться надо мною? А что Ты скажешь, если я сам все это прекращу? Что если я прям сейчас все это прекращу?
Блойд снова посмотрел на свой нож. Но теперь взгляд его был совсем другим. Как зачарованный, смотрел он на темное стекло. Вчерашняя бутылка стала оружием, способным бросить вызов самому Творцу! Блойд медленно поднес острую сколотую грань зеленого стекла к запястью и почувствовал на своей огрубевшей коже его гладкое и холодное тело. Он чувствовал, как пульсирует под ним кровь, пробегая по венам, как непроизвольно напряглись мышцы и сухожилия в ожидании развязки. Гут отчетливо представил, как вдруг резко скользнет стекло по его руке, выпуская на свободу запертую в венах кровь, как хлынет она теплым и липким потоком вниз по руке, по опостылевшим железным оковам, по скрещенным ногам, закапает на пол, побежит по щелям и трещинкам меж каменных плит к тяжелой закрытой двери. Неровными пульсирующими волнами будет уходить из него жизнь в такт слабеющему иссыхающему сердцу. А потом оно остановится, прекратив бессмысленные судорожные сокращения, а вместе с ним и существование тела, бывшего некогда Блойдом Гутом. И мир для него прекратится. А он для мира.
Интересно, как отреагирует Торн на такой сюрприз? Конечно, он сразу расстреляет надзирателя, не усмотревшего за заключенным номер восемьсот двадцать четыре. Жаль беднягу. Да кому я вру? Не жаль, нисколько не жаль. Что его жизнь по сравнению с жизнью, за которой он не углядел? Ну а потом? Потом Торн наделает в штаны. Если чего Бен и боится, так это гнева Императора. Деспол умеет гневаться, Торн об этом знает. А Десполу нужна моя жизнь, очень нужна, больше смерти моей нужна, это мы выяснили. Не зря же он лично написал об этом коменданту. Бен отвечает за меня головой, и головы ему этой, случись что, не сносить. Наверняка найдется доброжелатель, который нащебечет Императору, что именно Торн виноват в моей смерти. С кем я встречался накануне? С Торном! Кто довел меня до отчаянного состояния? Торн! Кто, в конце концов, дал мне эту злосчастную бутылку? Тоже Торн! Кто отправится вслед за мной в преисподнюю, когда все это откроется? Привет, Торн, я даже не успел соскучиться! Эх Бен, бедняга Бен! Знал бы ты, что все так выйдет, уж точно не давал бы мне этой бутылки. Да и цепи бы снял, от греха подальше. Если б знал… Снял бы цепи… Если б знал… Если б…
Стекло медленно отдалилось от запястья и легло на каменный пол. Сегодня ему не суждено было испить человеческой крови.
– Нет, нет, ты мне еще пригодишься, – пробормотал Блойд, отложив нож в сторону. – Пока никто не должен знать, что ты у меня есть. Мы поступим по-другому. Совсем по-другому.
Блойд внимательно посмотрел на свои цепи, растянул их, насколько было возможно, по полу, еще раз оценивающе посмотрел. Затем перевел взгляд на окно, снова на цепи, и опять на окно.
На следующий день оторопевший тюремщик стоял, вытянувшись по струнке, перед комендантом.
– Чего, говоришь, он требует?
– Книг, господин Комендант. Так и сказал, что передай, мол, коменданту, что заключенный восемьсот двадцать четыре испытывает невыносимую тоску и жажду по духовной, значит, пище. Больше, чем к кофею, говорит, испытывает. Кофе, правда, тоже попросил оставить, но по чтению и литературам истосковался, говорит, нестерпимо, и покорнейше просит эту его тоску удовлетворить путем предоставления ему этих самых литератур.
– Так и сказал?
– Точно так! Покорнейше, говорит, прошу удовлетворить.
– Ну что ж, раз покорнейше, отчего бы и не удовлетворить.