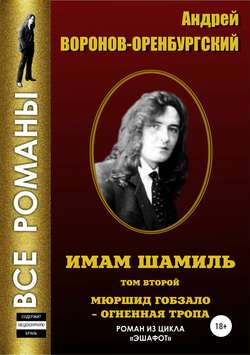Читать книгу Имам Шамиль. Том второй. Мюршид Гобзало – огненная тропа - Андрей Леонардович Воронов-Оренбургский - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
ОглавлениеУо-о-ех-ех-ехи-ии!
…Гулко охала и стонала каменная грудь земли, распятая под множеством нещадно молотивших её конских копыт.
Аллах Акба-аар!
…Одноглазый Маги едва успел бросить за спину, в чехол, расстрелянную винтовку, как осатаневший конь, захваченный хлынувшей стремниной грив, рванулся и понёс во весь мах. Впереди, на фоне гончарно-красного откоса перстатой скалы рябила пунцовая черкеска Месело Отрубленной Руки. Неудержимо летело на встречу спасительное громадьё Каратинского каньона, через который дорога шла на Ассаб, Телетль, Бецор, Ругуджу вплоть до Гунибского плато.
– Р-раа-а-ур-ра-а-аа!
За спиной сына Исы взвыла трясучим колеблющимся ором атаманская сотня. Лютый крик понесло от скалы к скале многоголосое эхо. Сквозь клубы вьющийся пыли сверкнул проблеск казачьих шашек – жадных до мяса и крови, как клыки саблезубых хищников.
Мюриды, рванувшиеся от Килатля плотным роем, рассыпались кто куда, дробясь и ломаясь. Ружья казаков без передышки стлали над головами горцев жужжащий визг пуль; они рвали впереди и под ногами коней колючие фонтанчики пыли и каменной крошки.
…Уо! Огонь горячего свинца опалил щёку. Маги, натягивая изо всей силы узду, перелетел через труп лошади, под брюхом которой корчилось тело Алту. Магомед не чувствовал ничего, кроме барабанного стука в ушах и боли в пальцах правой ноги, схваченной зубастой судорогой.
Выбитая бешеной скачкой мысль грызла в голове тяжёлый, намертво затянутый страхом узел.
Волла-ги! Из несущейся по пятам киповени казачьих бурок вырвалась одна, и точно летящая на чёрных крыльях смерть, нагнала урадинца. Разжав пальцы, Магомед въелся занемевшей от рвущегося повода рукой в костяную рукоять шашки; с силой ударил клинком плашмя по потному крупу коня. Тот заломил шею, понёс ещё быстрее, кидая назад лихие сажени. Но крылатая смерть не отстала!
Нагнавший горца терский казак, занёс сверкавшую полосу стали; обрушил её на оголённую медную шею. Но револьверная пуля оказалась быстрее. В воздух взлетела намокшая от крови казачья папаха. В пыль брызнули осколки зубов, выбитых из гнёзд, из разорванного выстрелом рта.
…Краем глаза Магомед выхватил: в сторону перстатой скалы, что оставалась по правую руку, вспененный маштак протащил мертвого казака. Одноглазый видел только яркую струю лампаса да изодранную синюю черкеску, сбившуюся комом выше головы вместе с белой нательной рубахой. Нога гребенца застряла в перекрутившимся стремени, и ошалелый конь нёс, мотая оголённое тело по острым камням.
«Хужа Алла! Помоги! Поддержи!..» – Маги умолял кого-то, кто незримо летел над ним, ослепляя солнечным светом, кидая в лицо плотные, жаркие вихри ветра.
Его конь, мчался теперь краем меловой кручи, мимо зарослей орешника, шиповника, кизила. Магомед хватал неровными рваными глотками горячий воздух, рубил жеребца плёткой, стараясь не отстать, чувствуя, как жестко, на пределе, вымогаются из сил отвердевшие мышцы и сухожилия скакуна. Пытался облегчить его галоп, не касаясь седла, держался лишь в стременах. Считал мгновенья вдоха и свистящего жаркого выдоха; количество прыжков и ударов своего загнанного сердца. С отчаяньем видел, как медленно, но неотвратимо увеличивается разрыв между ним и остальной, уносившейся прочь жалкой горсти мюридов, среди которых как путеводная метка мелькала пунцовая черкеска Отрубленной Руки.
Билла-ги! Худо было и то, что он сам, не заметив когда, потерял ритм, сбил дыхание, жадно и сипло дышал, под стать своему коню. А это значило: метко выстрелить, попасть в цель он не сможет! Его утомлённая плоть, казалось, налилась чугуном, дыхание захлёбывалось, в пересохшей глотке бурлил и клокотал шершавый ком. Глаза заливал из-под папахи горячий пот. Воля, которую он использовал, как палку, колотила его по мышцам ног, по горячим рёбрам, по содрогавшимся лопаткам и животу.
Он судорожно оглянулся, сердце скакнуло к горлу. Из-под ближнего угора вынырнули папахи казаков. Слух резанул пронзительный удалой посвист. Магомед наудачу разрядил последний патрон в барабане своего кольта…
* * *
Эти третьи по счёту роды у Мариам были самыми желанными, но и самыми тяжёлыми. Обычно женщины рожали на спине, но существовали и другие способы – стоя на коленях, или на ногах, в зависимости от течения родов. На женской половине, в отдельной, дальней комнате, за запертыми дверями, Мариам рожала стоя, как кобылица; длинная нательная рубаха, со спущенными плечами и широкими рукавами была задрана до пояса, голые ноги раздвинуты.
Мариам держалась руками за вертикально, «на распор» установленный для сего случая крепкий шест, и хотя схватки были жестоки, не издавала ни звука. Женщина терпеливо ждала, только время от времени закусывала край стоячего ворота своей исподней рубахи, либо ремень из оленьей кожи, который ей всякий раз подносила ко рту, приглашённая дочками, старая опытная повитуха Зарема.
Хай, хай…Так уж, видно, было угодно Творцу: муки и страдания женщин могут разделить только женщины. Бог весть, быть может, её глаза и блестели от слёз, но других признаков слабости и волнения не было. Но младенец, как нарочно, наотрез отказывался покидать уютную утробу матери. Впрочем, закон природы таков: малыш должен прокричать о себе миру лишь, когда он сам будет готов. А потому Мариам, между схватками, благодарила Небеса, что она рожает дитя, хотя бы в мирном ауле, в подготовленной комнате, под чутким присмотром опытных старух, а не взялась за дело посреди боя, когда случалось у несчастных рожениц с собою не оказывалось даже ножа и пуповину приходилось по-звериному перекусывать зубами.
Прежде, рожая дочек, Мариам не испытывала особых сложностей; благополучно разродившись, она сама, без посторонней помощи приходила показать мужу дитя и вскоре возвращалась к будничной, рутинной работе. Но нынче случилась напасть, будто сам ветлорогий шайтан ворожил на её сына.
…Пот застилал глаза, щекотал-жалил грудь и лопатки, когда очередные тупые толчки внизу живота перехватили дыхание. На мгновенье, она словно провалилась в тёмную пустоту, как сквозь ночную хрупкую наледь. И вдруг её прорвало: она зарыдала. Сначала беззвучно, сцепив зубы, тряся головой, дрожа и скуля, как от озноба. Потом громко, всхлипывая, заходясь хриплым клёкотом. Чуть погодя во всю грудь, распахнув широко глаза, рыдая навзрыд, брызгая слюной.
– Тужься! Сильнее! Ещё, ещё!! Э-э, трусиха!
– РачIа! РачIа! Давай! Дава-ай! – каркали вокруг слетевшиеся старухи.
Безумная боль ослепила. Мариам на миг умерла, утонула в багрово-чёрной бездне непомерной боли, в которой, как на дне омута, было невозможно кричать и дышать, а только видеть, как из тебя вырываются пузыри жизни. Но ещё через мгновение, Мариам снова подавилась криком. Она захлёбывалась, хрипела, слёзы текли из глаз, а из развёрстого рта с воздушной струёй вырывался горячий стон.
И вот оно! Свершилось чудо! Вернее стало свершаться, под надсадные вопли обезумевшей роженицы и восхищённые возгласы, и громкие хлопки повитух.
Крохотная смуглая головка вышла наружу, глазки-щёлки были плотно закрыты, отчего личико в момент появления на свет глядело чуток сварливо…
Усилие, ещё, и на волю протиснулись маленькие плечики. Мариам, теряя сознание, ослабила хватку рук; пальцы заскользили было по шесту, но матёрая Зарема, коя заводила всеми и всем, вовремя кольнула острючим шилом роженицу повыше ягодиц и угрозисто цыкнула на жену Гобзало.
Результат не замедлил себя ждать. Из подрагивающей плоти матери показалась маленькая смуглая, разделённая надвое попка младенца; две половинки были тесно сжаты, ровно два боба в стручке. Она ещё потужилась и тут, на последнем издыхании, весь «джигит» выскользнул легко, как головастик, на загодя протянутое, между ног, голубое байковое одеялко.
– О, Алла…Сын или дочь? – перво-наперво испуганно прохрипела она.
– Сын! Сын!
– Мальчик у тебя, хвала Аллаху!1
– Сын…У меня есть сын,…Танка! Благодарю тебя, Небо! – сквозь слёзы счастья стонала и плакала Мариам.
Обессиленную мать ловко подхватили под руки и бережно усадили на мягкие войлоки, покрытые чистым бумазейным тряпьём; тучная, полногрудая старуха с выбитой из-под чухты растрёпанной, седой прядью, припадая на одну ногу, быстро склонилась над новорождённым и, колыхая рыхлой грудью, проворно перерезала острым ножом пуповину, завязала её на крохотном животике крепыша, звонко шлёпнула, чтоб тот начал дышать. И тот отнёсся к сему, как настоящий урадинец: ну, разве малость всхлипнул, почти бесшумно. Оно и понятно, малыш уже знал: крик может навести врагов на его племя, и потому по-аварски воздержался от громогласных восклицаний, как будет воздерживаться и впредь. А шлепок этот был, пожалуй, первым и последним, который он когда-либо получил от своего ближнего. Сей шлепок ввёл его в суровую, полную опасностей и риска, горскую жизнь, где не будет особых плетей, но будет возможность без меры, познать на своей шкуре все вероятные виды увечий.
Волла-ги! Так, в слезах и крови, в поту и страданиях, появился на свет малыш, которого отец по своему желанию и совету муллы, нарёк Танка.
* * *
Аллах Акбар! Аллах Акба-ар!! – беспорядочный грохот винтовочных и револьверных выстрелов гулко сотрясал предвечернее ущелье Урады. Раскатистое, визжащее эхо, на разные голоса, рвано и оглушительно скакало-ухало по гранитным стенам каньона, гудело в скалах, закладывало уши, распугивая злых духов гор.
–Э-ээй, люди-и! Я мюршид Гобзало, сын Ахмата-та, говорю вам!..У меня сын! Сы-ын! Джигит родился! Билла-ги! Он будет, как его прадед, дед, как отец – воин!..Танка-а!! – его имя. Для чести. Для отваги. Для того, чтобы позвать человека!..
Трудно, да и бессмысленно описывать счастье Гобзало. Его радость была выше самых высоких гор Дагестана, парила вместе с орлами где-то там, в поднебесье.
Стоя на плоской крыше своей родовой сакли, бешено сверкая белками глаз, хищно скаля крепкие зубы, он продолжал безудержно палить в предвечернее бирюзовое небо и неистово восхвалять милость Всевышнего.
Переполошённые горцы, тотчас слетелись с оружием в руках со всей Урады, но тут же, смекнув в чём дело, восторженно поддержали пальбой и огненными танцами, душевный порыв счастливого отца.
* * *
Хай, хай…Из тьмы веков суровые горы Кавказа почитают рождение детей! Появление их на свет для горцев и степняков событие великое. Гремят барабаны, рокочут бубны, весело играют пандур и зурна. Радуются и ликуют все: молодые супруги, их родители и родственники, кунаки и соседи, – словом весь тухум. Воллай лазун! Разве может быть по-другому? Дети – продолжение рода, отрада в жизни, опора в старости. «Но каждый человек, который родился, ещё не человек. И каждая птица, которая летает, ещё не орёл» – утверждают на годекане убелённые сединой старики, а они знают, что утверждают.
Потому, любящие горянки-матери, всегда поют над колыбелями сыновей сердечные, мудрые песни. Воллай лазун! Следует с первых дней, с молоком матери, – воспитывать в сыне горскую честь и дух; чтобы имя сына летело орлом в вышину, чтобы оно под конец не тускнело, чтобы не пришлось, потом кинжалам и саблям выправлять кривизну его жизни и не смывать кровью пятно позора.
Ай-е! Ведь далеко не случайно Имам Шамиль часто повторял воинам перед боем:
«Мои горцы! Любите свои голые, дикие скалы. Мало добра они принесли вам, но без земли нет свободы горцам. Бейтесь за них не щадя жизни, берегите их! И пусть звон ваших сабель да усладит могильный сон ваших достойных предков! Бейтесь! И никогда не забывайте колыбельную песню своей матери!»
Хай, хай…В горах говорят: «Нет ни одной матери, не умеющей петь. Нет такой матери, которая в душе не была бы поэтом». Вот где красота, вот где честь! Люди бывают разные: плохие и хорошие, так и песни бывают лучше и хуже. Но всегда прекрасна мать и песня матери.
Волла-ги! Вообще у горцев всего три песни. Какие? Хо! Первую из них поёт горянка-мать, когда у неё родиться сын, и она сидит над его колыбелью. Вторую из них поёт горянка-мать, когда лишается своего сына. А третья? Билла-ги! – все остальные.
«Да, мать…Правдивый, хотя и пристрастный свидетель цветущего и увядшего, рождающегося и гибнувшего, приходящего и уходящего. Мать, качающая колыбель, держащая на руках ребёнка, обнимающая сына, который уходит от неё навсегда…Талла-ги! Что может быть искреннее и правдивее её песен?
Песня матери – начало, источник всех человеческих песен. Первая улыбка и последняя слеза – вот, что такое она.
Песня рождается в сердце, потом сердце её передаёт языку, язык передаёт её сердцам всех людей, а сердца людей передают песню векам».1 И какая вера в них! Какая любовь! Какая надежда!
…И Мариам, вторя песням веков, пела своему сыну Танка «Колыбельную», которую некогда сочинила мать Хаджи-Мурата, великого наиба и бесстрашного храбреца Шамиля. Вот как она звучала:
Послушай песенку мою
С улыбкой на лице
О храбреце тебе спою,
О гордом смельчаке.
Носил он шашку на боку,
Достоинство храня,
В седло он прыгал на скаку
И усмирял коня.
Границы он пересекал,
Как горная река,
Хребет горе перерубал
Он молнией клинка…
Орлом взлетал он к небесам
На огненном коне,
Как барс отважный со скалы,
Бросался в пасть войне.
Столетний дуб одной рукой
Он смог согнуть кольцом.
Да будешь ты, орлёнок мой,
Таким же храбрецом.
Мариам ласково смотрела на улыбающееся личико Танка и свято верила в слова своей песни. И не знала, конечно, как не знала прежде и мать Хаджи-Мурата, какие испытания ждут впереди её сына…
* * *
Хай, хай…Рождение дитя для горцев событие великое. Но всё же, – рождение младенца мужского пола радость вдвойне! И у аварцев встречается с особым торжеством. Оглушительная пальба из ружей и пистолетов – красноречиво возвещает миру о сём подарке судьбы. Оно и понятно: «Для красы невесты – чёрная бровь и алые губы, для красы рода – мужчина и острый кинжал». «Родичи отца – по имуществу, матери – по душе».
…Гобзало, хмельной от счастья и поздравлений, не считал, сколько в тот день сжёг пороху и расстрелял в небо зарядов. Крепко помнил лишь то, что оглох от пальбы и здравиц. И ещё одно держал он в памяти. Как первой прибежала к нему спящему в комнату, радовестница – старая Сакинат, и задыхаясь от волнения, доложила, что Мариам благополучно родила ему наследника – сына. Гобзало возрадовался и тут же, как того требовал адат, подарил за добрую весть белого телёнка. А во дворе счастливого отца уже поджидали оповещённые кунаки. При его появлении они принялись палить из ружей и поздравлять наперебой Гобзало:
– Ассалам Алейкум! Мир Вам!
– Да будет его приход в правоверный мир к счастью! Пусть ему всё удаётся, и в военных, и в мирных делах!
– Да даст ему Аллах, чего хочет его отец! Иншалла!
Тем же часом повитухи и другие женщины, помогавшие роженице, были приглашены матерью Гобзало отведать праздничных яств и ягодный «курч».2 Это кушанье в горах традиционно готовят для родильниц, и оно называется женским блюдом.
Сам же Гобзало попросил мулу привезти ему из мечети Коран, чтобы положить Священную книгу около ослабевшей жены для того, чтобы отогнать от неё нечистых духов, что тот и исполнил.
На мужской половине, в кунацкой, собрались родные, друзья и прочие одноаульцы. Мужского полу понабилась тьма – пуле упасть негде.
Счастливый хозяин, считавший рождение сына благодатью, посланною свыше на его семью, радушно встречал гостей, забыв о недавних обидах. В тот благословенный день были зарезаны два быка и больше десятка отборных баранов. Позже к пирующим подтянулись женщины и девушки в нарядных праздничных одеяниях.
Уо! Дом Гобзало, конечно, не мог вместить всех, потому войлоки и ковры для гостей были разосланы и во дворе, и фруктовом саду.
Радость и горе у горцев принято разделять сообща. Иначе, не выжить. Ведь одно дерево это еще не сад, а один камень ещё не стена. Это только хижина пришельца – на краю селения. Закон гор суров: кто не вместе с аулом, тот покойник без могилы. Хочешь выжить в горах, в каждом ауле строй по одной башне!
Воллай лазун! Веселье и танцы продолжались до глубокой ночи, покуда в котлах и казанах дымилась убоина. Водопадом сыпались поздравительные тосты. Вах! Вот где была воистину школа ораторского искусства, а также усвоения выковывавшихся веками сложных адатов и правил этикета!
Биллай лазун! Обилие бузы и пива у горцев, отнюдь, не повод для безоглядного пьянства. Пропойцы в горах от веку воспринимались как существа, потерявшие человеческий облик. Хо! Если такой и заводился в роду, он становился отверженным, посмешищем у одноаульцев, а порой и всего существующего сообщества. Тогда все отзывались о нём, как о «желудке незнающем своего дна»…Такому опустившемуся до сей низости, объявляли суровое наказание, – вплоть до изгнания из тухума и всенародное порицание. Пращуры завещали: барану – котёл, чабану – отара, воину – добыча и слава, пьянице – позор и презрение. Потому, что одна паршивая овца – всё стадо портит. Потому, что Коран запрещает пить вино мусульманам. И джамаат надёжно следит: чтобы не был нарушен обет, однажды данный людьми Всевидящему Аллаху.
…Гобзало вместе с другими, как того требовал и дозволял ритуал, выпил большой, выпил малый рог ячменной бузы, и предоставив обществу веселиться и пировать далее, покинул праздничное застолье.
* * *
Небо стало больше, орнамент низких звёзд усложнился, в нём возникли новые мерцающие узоры, туманности и млечные мазки, когда он, поднявшись по ступеням, прошёл на женскую половину, в комнату, где с новорождённым лежала его жена. В комнате было темно. Лишь в небольшое ночное оконце, в которое от ветра стучала ветка тутовника, и лились серебристые струи полноликой луны, слабо освещало опочивальню.
– Гобзало, ты пришёл…Рада тебе, – он услышал её слабый, но ясный голос. – Зажги свечу. Мы хотим с Танка видеть тебя. Как там родственники…гости как? Всего ли хватает?..
– Конечно. Забудь об этом. Ты как сама?
Дрожь прошла по лицу Гобзало, сердце замерло, в горле перехватило дыхание. Уж слишком слаб, был голос любимой.
– Мариам! Зачем молчишь? Как ты, родная? Тяжело тебе?
– Всё хорошо. За меня не волнуйся. Как ты? – с усилием выдавила она. – Почему не зажжёшь свечу?
– Сейчас, сейчас…
Он торопливо защёлкал огнивом. В маленькой комнате ожил слабый, но стойкий кинжальный лепесток свечи и желтушный свет наполнил опочивальню, бросая причудливые тени на закопчённое оконце, на лицо женщины и ребенка.
Гобзало, подошёл ближе, и, наклонившись, пытливо всмотрелся в родные лица.
– Правда, хорош? – прошептала Мариам, вся трепеща в ожидании вердикта мужа, глядя на его суровое, замкнутое лицо.
Она держала спящего младенца с левой стороны, в ревностном отдалении, и не позволяла отцу дотрагиваться до него.
– Да, клянусь Аллахом, в нём есть что-то особенное, – розовея шрамами, прошептал он, задумчиво всматриваясь в сморщенное личико своего дитя.
Взгляд отца выражал то же сосредоточенное внимание, радость и терпкую гордость, как и взгляд Мариам.
– Ай, молодец! Джигит…Орёл… – тихо роняя слова, как свинцовые пули, продолжал Гобзало. – Дай срок, расправит крылья и полетит.
– Иншалла. Бисмилах, бисмилах… – с торжествующей кротостью ответила она. – Так и будет. Посмотри, как он похож на тебя. Ай-е! Не трогай! Пусть спит.
Гобзало отдёрнул руку и тёмными, как чёрно-фиолетовая ночь, глазами изучал младенца, покуда Мариам ревниво не прошептала:
– Уф, Алла!..Что у тебя за привычка скверная за всё руками хвататься. Ведь можешь потревожить его сон! – Она осторожно приподнялась на локте, и подбила круче подушку под своей спиной.
На стене вырезались вытянутые и неподвижные тени двух склонившихся голов: похожих на горбоносые профили орла и орлицы, склонившихся над своим птенцом. В большой голове «орла» жила странная, мучительная, но в то же время радостная дума. Глаза, не мигая, смотрели на младенца, и под этим пристальным взглядом, тот, казалось, становился больше и светлее, и мнимые крылышки его начинали топорщиться, расправляться и трепетать бесшумным трепетанием. А всё окружающее – выбеленная стена, покрытая у потолочных балок копотью, сундук, ковёр и даже сама Мариам, – всё это сливалось в одну ровную серую массу, без очертаний, без теней, без света. И чудилось обожженному, изрубцованному лишениями и потерями воину, что он вдруг услышал чистый, незамутнённый родниковый голос, из того чудного, прекрасного и светлого мира, где он когда-то жил и откуда был навеки изгнан войной.
Волла-ги! Там не знают страха преследования, не ведают о грязи и смертоубийственной бойне, о слепо-жестокой схватке Добра и Зла; замешанной на крови, лютой ненависти и религиозной вражде. Там не знают о муках и страданиях человека, попавшего в раскалённые клещи судьбы, исколотого штыками, исклёванного издевательствами и избиваемого плетьми палачей. Там чисто, радостно и светло, и всё это чистое, – нашло приют в душе этого маленького, только, что народившегося на Божий свет, человека, которого, он мюршид Гобзало, любил больше жизни и готов был ради него на всё! К запаху слезившегося воска, шедшему от свечи, примешивался неуловимый сладкий аромат женского молока, и чудилось испытанному воину-гази, как прикасаются к его сыну дорогие пальцы, которые он так любил целовать, и хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнёт его уста навсегда, своим неумолимым и беспощадным предначертанием.
– Сердце моё, – он крепко стиснул ладонями её скулы, приблизил лицо к лицу. – Береги сына. Береги Танка, как зеницу ока! Он наше бессмертие. Он продолжатель моего рода.
«О чём ты говоришь, муж?! Всё сделаю, не терзай свою душу», – прочитал он в её преданных глазах. Гобзало разжал тиски своих твёрдых ладоней. А она, оторвавшись от душных подушек, припала к нему, уложив голову на выпуклые, полукружья мужниной груди, приникла к нему, словно вросла в него всем своим существом.
Так они моча сидели, точно боялись разбить чистый хрусталь доверительной тишины. От её слабого, нежного дыхания и выпитой бузы у него слегка кружилась голова. Мариам будто бы зажигала в нём угасшие светильники, давно минувших лет…И он, благодарный, в полной власти жены, на время утратив волю и имя, состоявший из её горячего шёпота и нежных прикосновений, странствуя в таинственном, создаваемом ею пространстве, крепче прижал дорогую жену.
Мариам притихла, словно притаилась, ещё сильнее прилепилась к его груди, и сердце её трепетало от радости и неизъяснимой тревоги. Ещё минуту назад у неё хватало сил скрывать от мужа своё чувство, но теперь, когда лицо Гобзало было рядом, когда она чувствовала его обжигающее дыхание, – всё затаённое вырвалось наружу, и она с глубоким вздохом взглянула на него благодарными, любящими глазами.
Непостижимая сила, как прежде, влекла их друг к другу, и в одном чувстве, в одном порыве, помимо воли, их губы слились. И не было бы, верно, конца их ласкам, если бы спящий рядом «джигит», не закряхтел и не напомнил о себе требовательно – и по-мужски.
Родители встрепенулись. Подобно чете орлов, услышавших голодный зов птенца, слетелись к гнезду. Их раскрасневшиеся лица осветили улыбки. Мариам по-матерински нежно, но сноровисто подхватила сына и положила его на руки отцу. И кроха-джигит тут же окончательно смахнул сон и улыбнулся ему своими чёрными глазёнками-бусинками! Воллай лазун! Здорово странно почувствовал себя мюршид Гобзало…Да, он много раз держал на руках своих любимых белок – Хадижат и Патимат, когда они были такими же, – не больше сапога, но дочки не в счёт…Ай-е! Другое, совсем особенное чувство испытал теперь Гобзало. И оно было прекрасным, до слёз…
– Давай его мне, – Мариам привычно скользнула рукой в глубокий разрез рубахи, приспособленной для кормления ребёнка, и её правая, пока еще не опустошенная грудь, отяжелевшая от молока, легла и заполнила её ладонь целиком. Кроха не мало сумняшеся, тут же ухватился за неё и вскоре снова заснул, так и не оторвав своих розовых губёнок, от торчащего, как набухшая почка, соска.
Гобзало во время кормления сына стоял за спиной жены, приобняв её плечи. И она, управившись со своей миссией, счастливо откинула голову назад, и прижалась тёплой щекой к его склонённому лбу. Он снова отчётливо почувствовал запах материнского молока, этот сладко-кислый аромат, а потом все старые и родные с детства аварские запахи: огня, дыма, земли, жира, крови, пота и полной дикости, которую он, конечно же, не мог осознать…
– Ты куда? – она беспокойно скользнула взглядом по его лицу. В её агатовых блестящих зрачках отражался двоящийся оранжевый лепесток оплывшей свечи.
Гобзало не ответил, только провёл рукой по лбу, и ещё теснее сдвинулись его нахмуренные чёрные брови.
– Сейчас буду, – уже у порога хрипло обронил он.
Дверь хлопнула за его спиной, и обострённый слух Мариам сразу уловил множество различных шумов и голосов в доме.
…Из прихожей на двор, слышалось тяжёлое шлёпанье свекрови, во след ей летел ворчливый клёкот отца Гобзало…
…Внизу, под оконцем шушукались её старшие дочки: быть может, радовались рождению младшего братца Танка, а может, их занимали танцы и песни, или бесхитростная весёлая игра, что зовётся в аварских аулах «бакиде рахьин». Это состязание в лиричности, в остроумии, в умении быстро найти нужное словцо – вот, что такое эта игра.
…А у ворот буйволятника, угнездившись рядком на старой сухой колоде, захмелевшие от споров повитухи, глушили одна другую треском голосов, ни дать ни взять, как стая галок, не поделивших меж собою баранью кость…
Хай, хай…Всё слышала Мариам, всё ясно могла представить, что творилось вокруг…Но, оставшись с младенцем одна, она не в силах была разделить ни веселья игр молодых, где быстрые стрелы их чёрных, сверкающих глаз пронзали друг друга в огненных танцах…Ни поддержать разговоров о хозяйстве, о детях, о баранте опытных женщин, – решительно ничего. Радость рождения долгожданного сына, омрачал скорый отъезд Гобзало. Хужа Алла! Как боялась она за него, как стонало и обливалось кровью сердце!..Её жутко пугал этот отъезд. Дурное предчувствие угнетало душу. Пугала её и новая жизнь, пришедшая в Дагестан…Давила могильной плитой неизвестность. Ах-вах иту! Какие будут заведены порядки в горах?
Что ждать от этих неверных урусов, которыми горянки пугают своих детей? Что ждать от их всесильного Белого Царя, с которым полвека бились горцы Кавказа? Бились насмерть под предводительством трёх имамов и …проиграли. В аулах болтают разное про Царя…говорят в своём Петербурге, он разъезжает на огнедышащем железном коне, вооружённый до зубов, в окружении свирепых батыров. Каждый день, он только и делает, что рубит головы неугодным, пьёт из их черепов кровь, других садит на кол. И ещё говорят, что ест он только нечистых свиней и собак, водит дружбу с шайтаном, а спит в огромном серебряном сундуке, под одеялом из золотых монет!…Уф, Алла…Холодно ему, наверное? Можно ли всему этому верить?..
Так, томясь страхами и сомнениями, крепко переживала Мариам, баюкала на руках маленького Танка, и даже не заметила, как вошёл Гобзало.
1
Р. Гамзатов, «Мой Дагестан».
2
Курч – «…приготовляется следующим образом: всыпают помешивая муку в кипящую в котле воду, пока образуется густое тесто; потом снимают с очага котёл и делают посредине теста углубление ложкою, куда наливают топлёного масла с мёдом или ягодным сиропом; затем едят кушанье ложками.»
Ш.М.Казиев, И.В.Карпеев, «Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке», Молодая гвардия, Москва, 2003г.